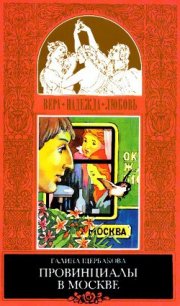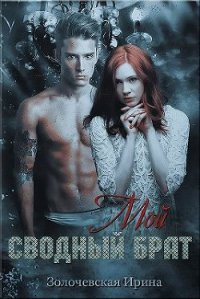Лизонька и все остальные - Щербакова Галина Николаевна (онлайн книга без .txt) 📗
– Что? Что? – не понимая, спросила та. Неужели она заснула? Вот это да, сроду такого не было.
Анюта плакала.
– Ну что? Что? – совсем проснулась и испугалась Лизонька.
Анюта плакала все громче и громче. В купе, кроме них, никого не было. Парни, что занимали верхние полки, целый день где-то играли в карты. Почему-то об этих парнях прежде всего нехорошо подумалось. Но Анюта была цела, и все на ней было в порядке, это если идти в мыслях далеко и предположить что-нибудь совсем ужасное. По мере того как Лизонька приставала к ней, Анюта успокаивалась и успокаивалась, и уже решила ничего не говорить – ни где была, ни что видела. Объяснить же следы как-то надо было, поэтому сказала:
– Бабушку жалко, старенькую…
Лизоньку охватила благодарная нежность. Вечно она тянет на девочку: и грубая она, и дерзкая, и неблагодарная, и нечуткая, а ребенок плачет! Вот о ком плачет! О бабушке-покойнице.
– Миленькая моя, миленькая…
Прижала к себе Анюту, та почувствовала привычный материн запах и подумала привычные мысли: «Она все-таки глупая у меня женщина. Ее ничего не стоит обмануть. Ничего!»
Баюкая дочь, Лизонька умилялась тому, что она у нее хорошая и тонкая девочка, а какая она могла быть, если Лизонька сама и хорошая, и тонкая, не могла она родить другую, грубость в ней возрастная, переходная, в ее возрасте все больше противные, чем хорошие.
Они обе затихли. Такая издали умилительная картина. Лиза так и воспринимала себя: внутри картины «Мать, обнимающая плачущую дочь» и вне ее, как благодарный зритель, а Анюта, продолжая вдыхать материн запах, проникалась к ней недетской жалостью. Такая она у нее наивная, простодушная, что вьет она, Анюта, из нее веревки и будет вить, а отец матери под стать – такой же. В общем, с одной стороны, повезло ей с родителями, но только с одной – потому что с другой – нет. Жизнь востребовала других людей, более умелистых в делах грубых, материальных, а ее родители – только по части утешения и понимания. Маловато будет… Возле их купе остановились двое.
– И так она в него вцепилась, так вцепилась! – рассказывала женщина мужчине. – Как в иностранца, что просто неприлично. Пришлось его отрывать силой… Он человек воспитанный, все-таки Европа… Бакалавр, между прочим. Откуда ему знать, что с нашими женщинами надо осторожно?
– Есть и порядочные, – сказал мужчина. – Моя дочь, например, никогда ни в какие «Спутники» не ездит. Там, папа, разврат, говорит. Иностранцы… У них все дозволено…
– А эта так вцепилась! Так вцепилась! Понимаете? Только чтоб уехать…
– Моя дочь другая. Папа, даже за миллион, но с иностранцем ни за что… У моей гордость… Это у нее от меня… Я считаю – выше русских нет на земле. У нас – все… В смысле там качества и количества…
– А эта как вцепится, как вцепится! Только чтоб уехать… И нахально так: да, говорит, хочу, и мечтаю, и уеду не с этим, так с тем. Все равно с кем, понимаете?.. А вы бы на него посмотрели… Просто никакой… Белесый такой и длинный бакалавр. Не высокий, а именно длинный… Жердь… Но она так вцепилась!
– Моя принципиальная. Папа, они к нам еще все придут на поклон, потому что русские – это русские… Это как дать-взять… И чтоб она там перед кем-нибудь склонила голову… За ней один начал было… Еврей, правда!
– О! – воскликнула женщина. – Как они проявились! А? Все рвутся отсюда! А сколько в них вложено наших средств?
– Моя: папа! Ни за что! Я рожу тебе русского человека…
– Это теперь редкость, чтоб так думали… Теперь им главное – уехать. Хоть куда, но лишь бы… А кто начал? Евреи… Я им поражаюсь! Столько в них вложено средств.
Лизонька так двинула дверью, что упала сумочка с продуктами и раскатились во все стороны яблоки и яички. Пока собирала, поняла, что вся горит, будто ее подожгли. Не обычная температура, нет, а именно ощущение внутреннего горения от живого огня. Будто запалил в ней кто-то селезенку, что ли, или поджелудочную железу, и охватывает ее потихоньку пламя, но не быстро, чтоб раз – и сгореть, а по чуть-чуть… Все-таки мы изнутри сырые…
«Господи! Господи! – думала Лизонька. – Я умру сейчас…»
Она хорошо помнила в себе то самодовольное состояние, которое так непринужденно привело ее в сладкий сон. Она же думала почти так же, как эта кретинка, которая стоит сейчас за дверью. Откуда в ней возникло это чувство ничем не обоснованного превосходства над Розой? С чего это ее понесло в это упоение «мы для нее». Что мы для нее? Прикрыть ребенка от убивающей руки – это что, уже основание всю жизнь напоминать об этом ребенку?
– Лучше бы меня удушили с матерью! – кричала ей Роза, а она возмущалась не самим этим криком, а неблагодарностью, которая в этом виделась. Если уж мы тебя спасли, то изволь, мол, жить и быть благодарной. Что это с нами, что? Дерьмо полезло. Это сказал кто-то? Или это такое простенькое объяснение само пришло? Дерьмо полезло. Но почему? Ведь это же страшно, послушать со стороны, как мы говорим, как выглядим с этим своим червивым самодовольством. И с какой стати? Что мы такое есть, чтоб всех иных походя…
Анюта наблюдала за матерью краешком глаза, ползает, подбирает закатившиеся яблоки, яички, пусть бы валялись, все равно они их не съедят. Баба Нина сварила два десятка, это ж лопнуть можно! Что она бормочет? Нет, с ее мамочкой не соскучишься. Только сейчас была добрая, широкая, мягкая дура, а сейчас вся каменная, узкая, от такой добра не жди…
А тут еще взвизгнула дверь, и все пространство ее заняла проводница, большая неопрятная тетка со следами малинового маникюра на нечистых ногтях.
– Это ты переходную дверь не закрыла? – с места в карьер закричала она. – Что ты там оставила? Чего хулиганничаешь?
– Какую дверь? – не поняла Лиза.
– Я ходила в тамбур, – четко ответила Анюта. – И все я закрыла. Нечего зря говорить.
– Извините, – сказала Лизонька и закрыла купе.– Я с ней поговорю.
– Ну, говори, говори… – нахально сказала Анюта. – Ты говори, а я буду слушать.
Но с матерью вообще творилось что-то не то, она просто как не видела Анюту, уставилась в окно каким-то застывшим глазом, а пятна на щеках ее были как специально накрашенные, аккуратненькие такие два кружочка. Сказала – поговорю, а сама молчит, но как-то уж очень громко молчит.
– Я больше не буду, – сказала Анюта.
– Ну естественно, – ответила Лиза. – Дважды там смотреть нечего.
Вечером, когда Анюта уснула, Лизонька тоже пошла в переходную кишку. Ей вдруг стало очень важно потом, после, выяснить, что тогда, раньше, ее дочери грозило. Глупо, думала о своем поведении Лизонька, кулаком тыча в качающийся брезент, пробуя провалиться (!) в расходящиеся стыки. Вон она, железная смерть, всего ничего – шаг вниз, но было уже ясно: так просто туда не попадешь, впредь можно не волноваться, но одна мысль, что Анюта снова может сюда прийти, заставляла совершать эти тычки и просовывания, чтоб убедиться! Убедиться!
«Я идиотка, – думала Лизонька, – я всегда не того боюсь. Я боюсь дорог, открытых окон, колес, лестниц, шахт, высоты, глубины, огня, воды, а этого ли надо бояться?.. Ну не войны же? А войны я как раз не боюсь. Никому такого не скажешь, но для нашего народа не война была самым большим горем. Там хоть знали, за что… У нас так много смерти ни за что, что когда за что, то это называется «смерть красна». Может, потому так нас все и боятся? Боятся этой нашей небоязни войны. Это же ненормально, это же ужас, если как следует осмыслить. Народ, который не боится войны. Я – этот народ. И так скажу: в обычной нашей жизни не настолько уж больше шансов выжить, чем если б была война. Посмотри-ка отрезочки времени, которые у нас без войны? Ничего себе?.. Ну, вот и все. Если не бомба, не пуля, все равно ты можешь стать врагом народа, сумасшедшим, диссидентом, ты можешь просто выпасть из жизни, из человеческого обихода, и тебя будто и не было. Никто не кинется тебя искать, никто не объявит о пропаже. Мир, в котором человек изначально определен как распоследняя мелочь, уже не человечий мир, так что нам после этого война? Она – просто откровенная война, а у нас семьдесят лет – откровенный не мир. Господи, что я такое думаю! Ну конечно, я боюсь войны – не за себя, за Аньку. Но если сразу, раз – и сразу, то пусть. Если там ничего нет, то проигрыш по всем статьям: и тут – ничего хорошего и там – ничего, а если надлежит продолжиться… Но чем, чем могу я продолжиться? Какую такую мысль я смогу предъявить там, чтоб она была интересна, не стыдна, и Богу был смысл оставить меня в дальнейшем воспроизводстве? Да знаю я, знаю, не с мыслями туда идут, там, говорят, принимают по добру. У нас по одежке, у них по добру. Ну, примут меня по добру, ладно, это мне не страшно, я баба не злая и не бессовестная, а с чем, интересно, меня проводят? Не буду же я вечно торчать в гостях у ангелов, мне определят место. По добру или все-таки и у них по уму провожают? А может, все-таки встречают по уму, а провожают по добру? Никто никого не встречает и не провожает. Там – ничего. И никакого с тебя спроса. Был, не был, убивал, кормил, подличал, сеял – один фиг. Ай, ай, ай… Мрак…»