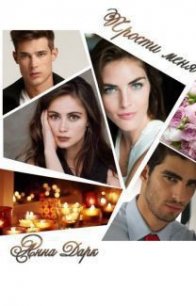Внебрачный контракт - Богданова Анна Владимировна (книга регистрации .txt) 📗
Баба Фрося посмотрела очень сосредоточенно на содержимое стопки и, выпив, занюхала рукавом.
– Устала я что-й-то! Посплю. – И она, отвернувшись к стене, сразу же погрузилась в сон.
Мы вышли... Вскоре поймала я такси и погрузила пьяного и дурного Дубова в машину, и всю дорогу он никак не мог успокоиться, пытаясь докопаться до истины, которая, по его мнению, была где-то рядом.
– Вот твоя мамаша меня не любит! – заявил он.
– С чего это ты взял?
– А с того! – И он, сфокусировав взгляд на кончике собственного носа, принялся нудно и сбивчиво объяснять. Потом выкрикнул основное доказательство того, что родительница моя его невзлюбила: – На свадьбу не приехала! – разоблачающе выкрикнул он.
– Это еще ни о чем не говорит, – не сдавалась я.
– По телефону со мной почти не разговаривает, – приводил он все новые и новые доводы. – А твой отец мне руку пожал! – с невероятной гордостью выпалил он и зарделся от удовольствия.
– Ну и радуйся.
– А твоя бабушка, только не та, что потом пришла, а та, которая песни пела и в кровати лежала, вообще князем меня назвала!
– Что ж тебе еще надо?
– А мамаша твоя меня не любит! – зациклился Дубов и мучил меня до двух часов ночи, задавая один и тот же вопрос о том, почему его невзлюбила моя мама. Тогда я впервые поняла его сестру и ее желание стереть дурака-брата с лица Земли.
На следующее утро я узнала, что баба Фрося ночью ушла из этой жизни – во сне. Она покинула этот мир и отправилась в лучший, наверное, не ощутив никакой перемены от перехода из сна в небытие. Она не чувствовала боли и, очутившись в кромешной темноте, подумала, вероятно: «Это мне пока еще не снится ничего». Она стремительно двигалась куда-то, но непонятно – вперед или назад, вверх или вниз. Вскоре далеко-далеко она увидела свет – мягкий и одновременно яркий, белый, лунный – он притягивал ее к себе своей теплотой. «Что за удивительный, странный сон!» – успела подумать она и попала туда, куда ей суждено было попасть.
До бракосочетания с Геннадием Дубовым я ничего не знала о мужской зависти – я вообще не догадывалась, что она существует. Если быть точной, то заметила я в супруге своем чувство досады, вызванное кажущимся благополучием и легкостью моей тренерской деятельности, на пятом году нашей совместной жизни. Все пять лет он злился непонятно по какому поводу, а однажды утром вдруг заявил:
– Я на работу не пойду!
– Почему это?
– Надоели мне эти вонючие ремонты! Сама-то больно хорошо пристроилась! Ходишь вокруг бассейна да указываешь, как кому руками и ногами грести, даже самой в воду лезть не надо! Так каждый дурак может! Ты вон пойди, потолок попробуй размыть! Я б тоже не отказался полдня покомандовать и еще деньги два раза в месяц получать!
– Невелики деньги!
– Я б согласился!
– Но чтобы заниматься тренерской деятельностью, нужно самому все детство работать, в соревнованиях участвовать, и не просто участвовать, а побеждать, чтобы сначала разряды получать, а потом мастером спорта стать!
– Ерунда! Не пойду я ни на какой ремонт! – выпалил он, после чего бездельничал целый месяц.
Но зависть его стала с того дня развиваться по всем направлениям, причем была она сопряжена с жадностью. А может, он и был всегда таким, только я этого не замечала, ослепленная (как мне тогда казалось) любовью?
За обедом или ужином он оценивающим взглядом смотрел на тарелки и хватал большую порцию. Стоило мне прийти из магазина, как он кидался к сумкам и, увидев, что я купила себе какую-то обновку, требовал себе точно такую же. До абсурда дошла ситуация, когда он выкопал из пакета женские прокладки в красочной упаковке и завопил на весь дом:
– А мне?! Я тоже это хочу! Мне, значит, не надо?! Конечно! Ты всю жизнь только о себе думаешь!
Когда я популярно объяснила, что это такое и с какой целью используется, он не отступился:
– Ну и что! И мне могли бы пригодиться!
Тогда я решила, что он завидует моим критическим дням – у меня-то они есть, а у него нет!
Прожив с Дубовым восемь лет, я дала наконец себе отчет в том, что он меня отягощает – морально. Вдруг передо мной открылись все его недостатки. И самое удивительное – я поняла вдруг, что достоинств-то в нем нет никаких! Искала я в нем плюсы и сильные стороны еще полгода, но так ничего и не обнаружила, кроме вызывания жалости к его персоне.
– Ну почему меня никто не любит? Зачем я родился? Отчего меня все ненавидят? – вопрошал он в самые драматические моменты нашей совместной жизни, находясь на краю той бездны, что называется четким, режущим его ухо словом – развод.
Все меньше и меньше вызывал Геннадий у меня жалости по отношению к своей поистине никчемной персоне. Я поняла этот его трюк, поздно, правда, но лучше поздно, чем никогда, – Дубов нащупал во мне слабое место и надавливал на него при каждом удобном случае, как деревянная китайская колодка на мозоль. Он хорошо изучил меня и понял, что я могу простить все, потому что способна на чувство душевной боли при виде страдания и самобичевания близкого мне человека.
Однако всему приходит конец. Пришел он и моему чувству сострадания.
После очередного запоя (на сей раз он отсутствовал неделю) Дубов, как обычно, явился с повинной и принялся давить на жалость.
Мой взгляд остановился на гипсовой бабе работы Федора Павловича Котенкова, которая всем своим видом выражала недостаток любви в этом мире и отсутствие настоящих мужиков, подаренной Юрием Макашовым мне еще в младенчестве, и в голове вдруг зародилась нехорошая мысль – зародилась и тут же укрепилась в моем мозгу: «Вот бы ка-ак дать ему по башке этой бабой!», но я вовремя остановилась – жаль стало неудовлетворенную женщину из гипса. Я быстро оделась и, схватив Дубова за руку, потащила его разводиться. Он окончательно протрезветь не успел, да еще по дороге вылакал банку пива, поэтому, не веря в серьезность моего решения, заполнил в ЗАГСе анкету, а выйдя на улицу, прокомментировал это событие следующим образом:
– Да ладно тебе, Дуня. Я же знаю, что ты меня любишь. Просто припугнуть захотела. Воспитательша! – И он засмеялся.
Но настроение Геннадия резко переменилось, когда по приезде домой я, собрав его вещи до последнего носка, вызвала такси и через полчаса погрузила бывшего мужа в машину вместе с пожитками.
– Я не могу так сразу все шмотки домой привезти! Меня сестра с лестницы спустит! Я постепенно заберу! – кричал он в окошко.
– И правильно сделает, если спустит!
– И за что ты меня так ненавидишь?! Что я тебе плохого сделал? – театрально стонал Дубов.
– Но и ничего хорошего! – отрезала я и поднялась в свою разгромленную квартиру. – Ой! Лучше бы я за Петухова замуж вышла! Ответила бы тогда, в девятом классе, на его записку согласием, сходила б с ним в «кено»... Он куда лучше Дубова! – размышляла я вслух.
Только сейчас я заметила, насколько бездарно, пошло даже играл бывший муж, вызывая у меня жалость: «Я никому не нужен! Никто меня не любит! Зачем я вообще родился!» Вот бред-то! И как я могла ему верить?! Будто все эти восемь лет я была слепа, будто какая-то заведенная дурмашина, начиненная пальчиковыми батарейками, каждый день кормила Дубова завтраками, обедами и ужинами, стирала и гладила его одежду, покупала ему трусы с носками, потому что он считал осуществление подобных покупок в магазинах ниже своего достоинства, работала и содержала нашу неполноценную ячейку общества. Неполноценную, потому что по прошествии пяти лет нашей совместной жизни, после ряда определенных анализов супругу моему был поставлен андрологом – Бодягиным Валерием Николаевичем – диагноз.
Диагноз звучал резко, как приговор, вынесенный судьей после слушания уголовного дела – секреторное бесплодие, так он звучал. И на оторванном от листа половинном клочке бумаги, будто клеймом на теле, было выжжено – секреторное бесплодие.
Вдобавок ко всему этому зависть – зависть по любому поводу, которая выражалась со стороны Дубова в невероятно громких скандалах. А эти периодические сбои – раз в два месяца ему непременно нужно было расслабиться, отключиться от тяжелой жизни ремонтника-маляра и пропасть неизвестно куда на неделю, кануть, исчезнуть. Что он делал в это время? Кто его знает, но он приходил с повинной, божился, что не изменял мне, подтверждая свою искренность обычным своим: