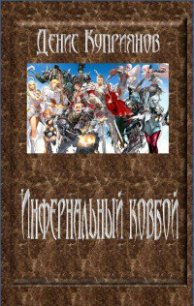Противоречие по сути - Голованивская Мария (читать книги без TXT) 📗
– Ты чего приехал?
– На несколько дней.
Лес рук, пульсирующее людское море, голые руки как нива, как океан золотых колосьев, зеленые, синие, голубые, до пояса голый ударник – в мыле, пот течет по лицу солиста в кожаной куртке, и рыдают девицы, отбрасывая со лба волосяную пену, размазывая по лицу сопли и слезы, тушь и губную помаду. Шум с улицы, телевизор, голоса с…
– Есть будешь?
Большой темный коридор с влажными половичками у каждой двери. Захламленная вешалка. В ванной – зеленые обливающиеся слезами трубы, поток в сумасшедших зелено-коричневых фресках, подслеповатое зеркало. В пластмассовом стаканчике щетка и зубная паста твоего соседа справа, чистит, как ты сказал, зубы дешевой зубной пастой из ностальгии по пионерским кострам и линейкам. Ты поворачиваешь гладкую фарфоровую четырехконечную морскую звезду, и рахитичная струйка послушно выбегает навстречу развороченной пуповине заплеванного умывальника. "Вот, вот, вот", – бормочешь ты, тыкая пальцем в полотенце, мыло, розетку.
Темная кухонька, заставленный склянками подоконник, крашенный темной краской пол. Три столика, хлеб в глубокой тарелке с почти уже стершейся голубой каймой. Чай в кружке, на белом боку которой красуется розовая с зеленым листочком клубничина, чаинки разбухают, вдыхают коричневый аромат, опускаются на дно. За окном – ослепительный, как красотка на фоне красных "жигулей", попирающая своими прекрасными ножками в туфельках на каблучках и январь, и февраль, и март со всеми их однозначными и двухзначными числами. Календарь.
Ты делаешь бутерброды, вдавливая сыр сероватыми пальцами в рыхлый хлеб, ты смотришь исподлобья, хватая себя за кончик носа, сложенное вчетверо грязное полотенце проваливается в щель между плитой и кухонным столом, ты ругаешься, откашливаешься, сморкаешься. Ты орешь в телефон, возвращаешься с покрасневшим и потным лицом, ты покупаешься на мой внимательный взгляд, тебе кажется, что я моложе тебя, ты набираешь в легкие воздух, и вот уже твой язык танцует отдельно от тебя.
Она говорит тебе: "Это очень интересная вещь!" А ты вдумывался когда-нибудь, что означают слова "интересная вещь"? Она хочет привлечь твое внимание, и ты послушно как осел, как баран поднимаешь свои телячьи глазки:
"Давай, рассказывай, что в ней интересного, и кто такая эта вещь". Но это сначала. А потом она, взъярившись, взъерепенившись, шипит: "Если ты, падла, если ты, падла, еще когда-нибудь прикоснешься ко мне…", ты объясняешь мне, что развязать этот узел не то, что ржавый шприц в луже отполоскать, не то, что сдать кефирные бутылки, предварительно проткнув большим и указательным пальцем зеленое фольговое очко, это совсем другое дело, ты говоришь мне: "Слушай, подходи к телефону сам и говори, что меня нет дома, иначе не дадут спокойно позавтракать. Это во-первых, а во-вторых, не шуми здесь, понял?"
Ее голос показался мне немного грубоватым, то ли сонным, то ли прокуренным.
Через полчаса ты ушел. В комнате в твоем шкафу: на верхней полке – майки, красная, синяя и голубая, новое белье, два новых черных тренировочных костюма с надписью "Пума", груда носков; на средней полке – джинсы, черные брюки, серые зимние брюки в полоску, военная форма; внизу – австрийские ботинки на натуральном меху, рядом наверху – два свитера, деньги в пакете, чуть ниже, на плечиках – рубашки, три пиджака, два костюма. В карманах одного из них на двадцатипятирублевой купюре – записанный красным карандашом телефон, в другом кармане – женские часы со сломанным браслетом, клетчатый носовой платок.
Хлопнула входная дверь. За окном – квадратный вонючий дворик, подвыпившие мужики матерятся на женщин с исхудалыми, ярко накрашенными лицами и удивительно худыми ногами в простых чулках и больших коричневых тяжелых туфлях.
Она говорит тебе: "Ты потом будешь жалеть". А что означает слово "жалеть"? Метаться по комнате, нажираться в одиночестве и рыдать пьяными слезами, грозить убийством, хрипеть в трубку: "Если встречу – убью!", что значит "жалеть"? Давно прошли времена просиженных общаг, пропахших потом скороспелых встреч, когда ты с удивлением рассматриваешь свое разгоряченное тело, розовое, потное, гладкое, блестящее, с хорошо прорисованными мышцами, жилами, когда каждое твое движение будто исходит не от тебя, будто ветер гонит волну, и ты с яркостью доламываешь ходящую под тобой ходуном, растянутую как дешевые портки раскладушку. Ты давно уже живешь здесь, так о чем же тебе жалеть?
Ты тыкаешь в меня пальцем, бьешь кулаком по руке, ты улыбаешься мне в ответ, пьянея от духа сообщничества, ржешь и кашляешь, и стены дрожат от твоего хохота, когда ты входишь в раж
Мы выходим на улицу, идем по пустым воскресным улицам, мимо офисов и элитных домов, ты шаркаешь ногами, сбиваешь носы у пижонистых коричневых лакированных ботинок, бросаешь пустую сигаретную пачку в лужу. Лицо возбужденное, воротник наполовину загнулся, из-под шарфа – голая шея, ты идешь на полшага впереди, и я, словно в оптический прицел, смотрю тебе между лопаток и прислушиваюсь к звукам своего голоса: "Не фальшивит ли?"
Когда мы проходили мимо помойки дома, в котором живут иностранцы, ты засмотрелся. Ослепительно-прекрасный, словно груда новогодних подарков мусор, состоящий из пустых баночек из-под пива, смятых красно-бело-золотых сигаретных пачек, хрустящих оберток, по-коро-левски разодетых бутылок с яркими этикетками, пластмассовыми бляхами, вогнутыми донцами, коробок с дымящимися в белой чашке кофе, водопадом хлопьев в жарком паре горячего молока, ты засмотрелся и заржал потом ужасающим смехом: "Вот ведь, никаких тебе гниющих капустных листьев или картофельных очисток", ты покраснел от хохота и вдруг замолчал, когда вышел из аккуратненькой подворотни розовощекий красавица-мент, ты прищурился тогда и неожиданно спросил:
– Слушай, а ты чего приехал-то?
Ты рассказываешь, с обидой, опустив глаза: "Еще вчера ходили в чем попало, жрали макароны из глубокой тарелки алюминиевой ложкой, а теперь: меняют туалеты по три раза в день, трясут друг перед другом ярлыками: это – Шанель, это – Ла Гир, это – Диор. На вечер – дорогая ткань, с утра – грейпфрутовый сок или овсянка на воде, гладят себя по розовым щекам, по бархатным манжетам, наслаждаются, мол, а тебя мы в свою компанию не возьмем. – А почему не возьмете? – Потому что тебя мы в свою компанию – не возьмем. И сжимаешь ты в продырявленных затхлых карманах кулачки в цыпках. Давай! Но помни: тебя мы в свою компанию не… Или еще: Ну скажи мне, скажи, разве могу я своими принципами малохольными розовощекую, да узкобедрую с умопомрачительными ягодицами непосильной ношей давить, смотреть, как лицо ее прыщами покрывается, бояться, что в кино другую жизнь увидит, расплачется. Кто сказал тебе, что ты прав, если вокруг тебя уродство, разве так уж неважно, кто кого?"
Я смотрю на тебя с нежностью, пью, как нектар, каждое твое слово, пой, дорогой мой, нет у тебя лучше слушателя, я кричу: "Браво", швыряю к ногам твоим цветы, из последних сил хриплю: "Бис!" и всякий раз, закрывая глаза, вижу тебя на сцене в сорокаградусную жару, как и положено по сценарию, в соболях и лисах, а ты громко рассказываешь свою роль, брызгая слюной и потом в жарких лучах юпитеров, и дамочки с голыми плечами… А что дамочки с голыми плечами? Обмахиваются веером, ждут антракта.
Через квадратное окно на кухне, ведущее в ванную, хорошо видно, как ты принимаешь душ. Глотаешь воду, вытягиваешь шею, улыбаешься своим мыслям, стоишь в желтовато-розоватом облаке пара, смотришь, как по твоей распаренной красной коже бегут прозрачные, бесцветные ручейки, натирая до блеска, ты проводишь рукой по животу, по груди с редкой порослью, смотришь на свои ноги, на растопыренные пальцы, щиколотки, жестко выпирающие вперед коленки, а там, что у тебя там, внутри, за близняшками-почками, за неженкой-печенью, за злючкой-селезенкой, за синевато-бордовым сердечным яблоком, как протекают реки, по которым течет твоя кровь и пролегают мышцы, по которым проносятся ураганы энергии, что, интересно тебе? Так знай: там, за всем этим, нет ничего, дорогуша, поверь мне, уж я-то знаю. Как бы ты ни тужился представить себе, что твои эпителии и мускозы таят некий, может быть, скрытый от тебя смысл, все равно…