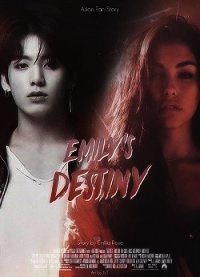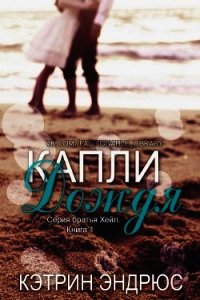Мать моя — колдунья или шлюха - Успенская Татьяна (лучшие бесплатные книги TXT) 📗
Саша учит меня каратэ.
— Мужик должен уметь защитить себя и тех, кого любит. Мужик должен управлять собой.
Мне не даётся его наука, я не умею реагировать быстро ни на чужое движение, ни на чужое слово. Но Саша терпелив. Крутит меня, дёргает за ноги и за руки, показывая, как я должен двигать руками, ногами, туловищем, заставляет быстро реагировать на выпады, которые он делает. Проходит несколько недель, прежде чем слышу: «Люкс, поймал!»
Саша — спокойная моя заводь. Саша не балует меня, не служит мне, не живёт для меня. Саша по-деловому включает меня в свою программу бесконечного движения: ты должен уметь, ты должен знать, ты должен делать.
— Резче разворот. Это тебе не танец. Резче выпад. Блок.
Тося играет с Павлом.
Она не хочет видеть мою неуклюжесть и мою тупость, слышать, как Саша по несколько раз повторяет приказания, которые я не могу исполнить, и порой уводит Павла подальше.
— Можешь! — кричит во всю глотку Саша, привлекая к нам внимание собачников и молодых мамаш. — Можешь, чёрт тебя подери! Не сопля же ты. Не спящая красавица. Я нападаю на тебя. Я не друг. Берегись. Ну же! Блок рукой! Бей!
Пашку бы сюда! Вот кто сделал бы всё, как надо.
— Тосю подстерёг бандит, — вдруг говорит Саша. — В опасности жизнь Тоси!
Я вздрагиваю всем телом и — бью.
— Дело! — орёт Саша. — Можешь! Люкс!
В один из жарких летних дней мы сидим на земле. Тося увела мальчика кататься на качелях. Саша рвёт траву и травой стирает пот с лица. Я утираюсь рубахой.
На Сашиной щеке — зелёный след, узкой полосой.
— Ты доволен, что поменял пол? — неожиданно и для себя спрашиваю я.
Саша обалдело смотрит на меня. И — отвечает:
— Не поменял бы, сдох бы. Женская доля — не для меня. Зависимость от обстоятельств, от мужчин, от традиций.
— А мать? — спрашиваю я. Саша понимает.
— Мать — над этой жизнью. Не в ней живёт.
— А Тося? — спрашиваю я.
— Тосе будет трудно. Она будет зависеть…
— И ты зависишь, несмотря на то, что ты — мужчина.
Он молчит, заглушая своим молчанием птиц и кузнечиков, гул Проспекта, крики собачников, лай собак. И — вдруг кричит:
— Ты понимаешь, зачем я учу тебя? Я хочу, чтобы ты не зависел ни от кого! Чтобы был полон! И чтобы от своего тела не зависел. Я хочу, чтобы ты был неуязвим в этой жизни. Да, я завишу. Да, я не изжил в себе женщину — пускаю слюни по каждому поводу. Истерик, как баба. Но я не хочу, чтобы ты зависел от матери. И от Тоси. И от кого бы то ни было! Да, твоя внутренняя жизнь — твоё дело, я не касаюсь её, но ты должен сделать и свою общественную жизнь и должен научиться охранять и её, и духовную, я не хочу, чтобы ты стал чьей-то жертвой! Не хочу!
Он так кричит, что на нас оглядываются. У него дёргается зелёная травяная полоска на бледной щеке.
Да он сам совсем не защищен! — точно ножом полоснули меня! — Я должен помочь ему! Я должен заботиться о нём.
— Идём к нам обедать! — говорю я. — У нас сегодня борщ!
Борща наливаю ему до верху, и Саша отхлёбывает прямо из тарелки. И смеётся. А всё равно зелёная полоска дёргается на щеке.
Тося кормит Павла. Потом вкладывает ложку в его руку.
— Давай-ка сам! Сам, Паша!
С собой Саше я даю бутерброд с мясом и яблоко.
Кому сейчас лучше, когда мы стоим друг против друга у двери? Мне или ему? Он кладёт свою лапищу мне на плечо, и я чуть приседаю.
— Повтори все выпады и все упражнения! — Щёки его чуть порозовели. — И реши задачи разными способами.
— У тебя от травы… — говорю я.
Он идёт в ванную, моет щёку и смеётся.
— Спасибо. А то меня не поняли бы, приняли бы за лешего. Приду послезавтра.
Павел спит. А мы с Тосей сидим друг против друга на кухне, и перед нами — раскрытые учебники.
Всё, как обычно. Зимой — учебники, летом — книжки. Нас накрывает тишина. Я — не умею разговаривать. И Тося не очень умеет.
И что мы можем друг другу сказать? Мы знаем каждую минуту друг друга. А мысли… разве могу я рассказать ей свои сны, свои встречи со Светом? И её мыслей я не знаю.
— У тебя уже хорошо получается, — говорит Тося. Это не разговор. Это риторическая фраза, не требующая ответа.
Читай! — приказываю себе. Но — залепило розоватым светом глаза, заткнуло уши грохотом.
Как же я вижу, слышу, что Тося встаёт, если не вижу, не слышу? Подходит, кладёт руки мне на голову.
Уйди! — кричу я ей. — Сейчас же уйди! Я не хочу…
Не надо мне Тосю, — молю Свет. — Я не люблю её, нет! Разлепи мне глаза, раскрой уши! Я не хочу. Я хочу быть свободным от неё. Я не люблю её, не люблю! — Я кричу. Всеми своими силами отпихиваю руки Тоси.
А волосы вспыхивают и горят. И кожа на голове горит. И лицо. Пожар сползает по мне вниз.
Господи, — кричу я, — не тронь Тосю! Не тронь! Я не люблю её! Я её терпеть не могу! Спаси Тосю. Не сделай ничего плохого Тосе!
— Мне сегодня нужно пораньше, — сквозь мой крик, сквозь глухоту — высокая нота Тосиного голоса. — Я обещала маме пойти с ней к врачу. Спасибо тебе за всё. За всё, Иов, спасибо тебе.
Господи, Свет, Бог! Спаси её! Не можешь же ты и ей причинить боль или принести смерть! Я не слышу её слов. Нет же! Это не слова прощания. Это лишь до завтра. Я не люблю её. Не люблю!
5
Я остаюсь один с Павлом. Он спит. Я читаю.
Обычно между мной и книгой нет преград, через которые мне надо продираться. В «Войне и мире» я одновременно во многих лицах: и Наташа, и Николай, и Пьер… Андрей Болконский мне чужд, лишь отдельные эпизоды с ним понятны: танец с Наташей, например. Танцевать не умею, ни разу в жизни не танцевал. Толстой преподносит первый урок — бал, на котором танцуют Андрей с Наташей. Но сейчас я плохо понимаю то, что читаю. Мы с Павлом вдвоём в доме.
Подхожу к кровати. Он выставил зад, стоит на коленях. Лица не вижу.
Кто он? С чем пришёл ко мне?
Играет с ним обычно Тося. Я не умею ни играть с ним, ни разговаривать. Я даже не умею смотреть на него.
Почему же мать сказала, что в нём — Павел?
Если надо, сажаю его на горшок, переодеваю. Но, когда он зовёт меня «Ёша», как и Тося, не подхожу, делаю вид, что не слышу. Он часто зовёт меня.
При чём тут Павел?
— Он любит тебя, — говорит мне Тося. — Посмотри, как он хочет, чтобы ты поиграл с ним!
— Посмотри, как он тянет к тебе руки! — говорит Тося. — А ты не обращаешь на него внимания!
— Ты не любишь его? — спрашивает Тося. Сейчас я стою над ним и смотрю на его круглый зад в пёстрых штанах.
И, словно чувствует мой взгляд, мальчик переворачивается и открывает глаза. И смотрит на меня. Смотрит не как ребёнок, а — пристально, совсем как любопытствующий взрослый.
Я смотрю на него. Впервые.
Ему уже два года, и лицо его вполне определилось.
Глаза — не материны, не каре-чёрные, и не Сашины — не голубые. И взгляд не материн, вполне земной.
Мальчик улыбается, встаёт, поднимается на цыпочки, тянет ко мне руки.
Склоняюсь к нему, он тут же всеми пальцами впивается в мою шею.
Пальцы на шее сзади, а мне кажется, он душит меня.
«Ёша», — говорит он.
От его тела идёт знакомое тепло. Мерещится мне или и впрямь… но откуда… запах раскалённой железки. Нет же! Это материны шутки. Это она внушила мне: новый мальчик — Павел.
Мёртвой хваткой вцепился он в меня. Павел никогда ничего не делал со мной насильно.
Пытаюсь оторвать от себя мальчика, но он ногами меня обвил, он словно прирос ко мне.
И я стою со своей ношей неподвижно, не понимая, что случилось со мной?
Мы с Тосей берём его из яслей после уроков.
Когда мальчику исполнился год, мать пошла работать. Это она хотела, чтобы он рос в яслях. Мы с Тосей не согласились держать его там целый день. И вот теперь я — в ловушке, я обвит мальчиком и затаил дыхание.
Он говорит только «мама», «папа», «Ёша», «Тося», «ам». А я вдруг слышу: «чи…», «чит…»
Мерещится?
Но ведь прямо в ухо звучит — «чи…», «чит…»