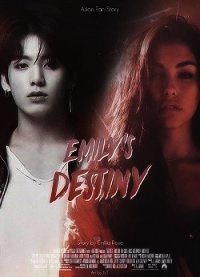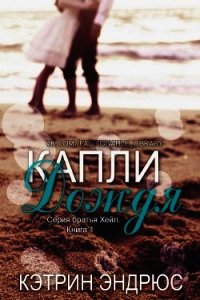Мать моя — колдунья или шлюха - Успенская Татьяна (лучшие бесплатные книги TXT) 📗
Ворон захохотал.
Не засмеялся, а именно захохотал. Жадно, с любопытством смотрели представление ребята.
Отхохотав, воздел руки и торжественно произнёс:
— Истинное искусство, молодой человек, не допускает суеты и злобы. Оно избирает, не я. И вы, молодой человек, и все ребята увидите сами, что Оно выбирает. — Слово «оно» он произнёс так, как произносят слово «Бог».
А я попал в ловушку. Рта не разинул на протяжении девяти лет, а на десятом вот тебе, пожалуйста, в спектакле играть! И, наверное, я встал бы и ушёл, ее ли бы не Тосин вид.
Она чувствует, Котик так этого дела не оставит.
До какого страха довёл её Котик!
Она боится за меня.
Господи, Свет, помоги же! Как мне утишить Тосины страхи? Как помочь ей? Господи, сделай же так, чтобы я разинул рот и не разогнал при этом присутствующих. Сделай, молю тебя, Свет, так, чтобы Тосе не было за меня стыдно и чтобы прошёл её страх, неважно чем вызванный.
Сидит Тося на противоположном конце нашего громадного стола, и никак не могу я передать ей: «Успокойся, не бойся за меня! Всё будет хорошо!»
И, в самом деле, словно Свет слышит меня и опускается на моё поле сражения за Тосин покой, первые же строки, произнесённые мной, вполне по-человечески звучат, и никто не хихикает, и никто не затыкает уши, и никто не бежит прочь, а Ворон даже выражает своё одобрение: «Справился!»
Тося же комом вываливает свои реплики, не понимая их смысла и, видимо, не осознавая, где она и что с ней происходит. Она чувствует опасность, исходящую слева от себя, от Котика, и плывёт в страхе.
— А ну-ка, иди сюда, — неожиданно говорит Ворон. Оказывается, птица Ворон вовсе не так проста, как кажется. — Иди-ка сюда, Тося, — повторяет он своим проникновенным голосом. — Вот тебе таблетка валерианки, вот тебе стул. — Он сажает её рядом с собой. — Вот тебе пространство. Ты же у меня вполне смелая девочка! Ну-ка, начнём сначала. Один совет дам тебе, Тося, на всю жизнь. Смерть приходит один раз. Её бояться очень глупо, потому что смерть, Тося, — это переход в иную жизнь, это освобождение от всех неприятностей земной жизни, это покой, Тося. А если смерти бояться не надо, так разве можно бояться чего-то другого? От другого и вовсе никакого страха не получается. А вам, молодой человек, — говорит Ворон Котику, — советую побороться со своей агрессией, она вполне может сожрать вас изнутри. А уж если ты нанесёшь ущерб главному моему «имуществу», — он усмехнулся, кивнул на Тосю, — выброшу из студии, не глядя на твои внешние данные и неординарные способности. Да, ты прекрасно сыграешь Арбенина, но мне вполне подойдёт и чуточку хуже… Тут, молодой человек, расклад посложнее. Давай, Тося, закрывай глаза, дуй в лермонтовское время.
Тося, казалось, вполне пришла в себя, но избегает смотреть на меня.
Необычные, патетические монологи Ворона меня ошеломили. За много лет учёбы у него я от него не слышал ни одного лишнего слова, ни одного лирического отступления. Только то, что относится непосредственно к уроку. Разговоры о душе он терпеть не мог, и, если ребята задавали ему вопрос «А как вы относитесь к тому или иному произведению (герою)?», он отвечал: «Истина — то, что написал автор. Истина — то, что чувствуешь ты. И он. И она. Разве смею я навязывать вам мнение своё?» Если его спрашивали — «Ас вами такое было?» или просили — «Расскажите о себе, как вы учились…», он усмехался: «Разве я попал в герои литературного произведения? Думаю, это к литературе не имеет отношения. Никаких, ребята, лирических отступлений быть не должно». А тут тебе сплошное лирическое отступление.
Не только я сидел разинув рот.
И всё-таки прочтение состоялось, и я читал за Арбенина в драме Лермонтова «Маскарад».
Ворон спросил очень тихо:
— Ну что, ребята, ваше мнение?
— Он не сможет убить Нину, — сказал кто-то.
— Надо переделать концовку, — сказал ещё кто-то.
— Спрошу по-другому: по вашему мнению, кто должен играть Арбенина?
— Северин.
— Северин, — заскакали по моей голове слова.
— Так тому и быть, — тихо сказал Ворон. — До следующей встречи, ребята.
Очень тихо было в классе.
Тося продолжала сидеть, когда один за другим ребята потянулись к двери.
И вот нас остаётся в классе трое.
Я решаюсь взглянуть на неё.
Снова красная, как и в начале нашего сегодняшнего общего пути.
Что со мной происходит все эти дни? Меня ломает, как тяжелобольного. Я никогда не болел всерьёз, мать вовремя успевала остановить болезнь. Но сейчас я тяжко болен. С трудом встаю, подхожу к Тосе одновременно с Котиком.
— Идём! — говорит Котик.
И Тося покорно склоняется перед ним. Он берёт её за руку и буквально тащит к двери.
Я иду за ними следом. Мы выходим в наш двор. Мы подходим к арке, ведущей на Проспект, к той, к которой так счастливо шли ежевечерне с Павлом.
— И вы в ту же сторону, что я? — возле нас Ворон. Он насмешливо глядит на Котика, и тот отпускает Тосину руку.
Но вместе мы идём недалеко. Ворон сворачивает к большому дому и говорит мне:
— Второй этаж, квартира 75, этот подъезд, код 169. Заходи, всегда буду рад.
Мы остаёмся втроём на моём ярко освещенном Проспекте. Подошвами знаю каждую трещину в асфальте. Я вырос на этом асфальте, под ярким светом, в защите больших светло-серых домов — с Павлом, с тётей Шурой, с Пашкой.
— Идём! — говорит Котик и снова берёт Тосину руку.
Но я лишь чуть-чуть нажимаю на ту точку Котикова запястья, которую мне показывал Саша, и спокойно вытягиваю Тосину руку из его.
Я не беру её руку, освобождённая, она падает вдоль тела. Я не смотрю на Тосю. Я, чуть касаясь её локтя, веду её по Проспекту.
Она еле идёт. Но она идёт. И Котик идёт сзади.
Тося живёт очень близко, во дворе такого же дома, как и все, что стоят на нашем Проспекте. Та же детская площадка, те же лавки перед подъездами, только вместо детского сада и школы — химчистка, прачечная, ателье.
Тося подходит к своему подъезду. И вдруг обращается к Котику:
— Прошу тебя, ради меня, не сделай ему ничего плохого.
— Разве я похож на злодея? — спрашивает Котик, и я вижу, как он зол. Он весь надут злобой, как воздушный шар — воздухом, и щёки у него раздуты, словно зоб у бурундука. Он может лопнуть от злости. И держится последние, считаные мгновения, пока Тося тянет на себя дверь подъезда и скрывается за ней.
Я не успеваю повернуться к дороге, как меня сшибает с ног удар в лицо, и сразу же надо мной поднимается платформа подошвы, готовая пригвоздить меня к сентябрьскому асфальту.
Удар ли, кровь ли из носа, занесённая ли надо мной нога в модном ботинке на толстой подошве, с толстым, чуть ли не железным кантом, перемещают меня на нашу с Сашей поляну собачников, где проходят наши тренировки. «Выпад, блок, удар», — слышу я Сашин голос. И совершаю свой первый в жизни агрессивный поступок, правда, не имеющий никакого отношения ни к выпаду, ни к блоку, ни к удару, хватаю Котика за ногу и валю его.
Котик не ожидал от меня такого. Он встаёт не сразу, понимая, что я не стану бить его лежачего. Вот он поднялся, и его кулак сейчас собьёт меня с ног. Но я ставлю блок, отражая удар, и бью его ногой, как учил меня Саша. Он приседает от боли.
Кровь хлещет из моего носа, я глотаю её, но глаза ловят каждое движение Котика. И тут же я отвечаю на его новый удар новым блоком и ухожу из-под шквала его выпадов.
В какое-то мгновение, мне кажется, я становлюсь Сашей. Во мне нет страха. И во мне нет моей обычной отрешённости, я весь — в сегодняшнем моменте: ногой, ногой, рукой…
Поначалу я несильно раззадорен — кроме одного удара ногой, Котик не нанёс мне других, но его злость проникает в меня через все поры, сопрягается с криком «папочки»: «Она — ведьма!» И постепенно что-то во мне меняется — я тоже наливаюсь здобой. Теперь она движет мною, вопреки Сашиной науке, в которой нужно работать с холодной головой: бью Котика исступлённо, как когда-то били его на школьном полу одноклассники, бью за Тосин страх, за Тосину покорность, за её зависимость от Котика, за отцовское хамство, за потерю моих близких людей. Мать остановила Вилена. Может быть, я остановлю Котика?!