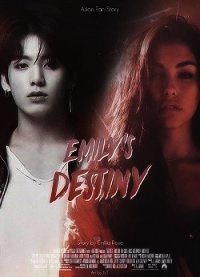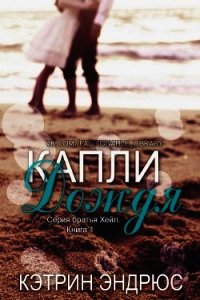Мать моя — колдунья или шлюха - Успенская Татьяна (лучшие бесплатные книги TXT) 📗
Всё это не проговаривается внутри меня, всё это гремит сверху, и, думаю, Свет благословляет меня на мой первый бой.
Котик корчится передо мной и — пятится от меня и чуть не уползает из Тосиного двора.
Кровь всё ещё струится из носа, но уже не сильно.
Долго стою я у Тосиного подъезда, глядя в зарешеченное тёмное оконце его двери. И дышу глубоко, стараясь из своей глуби выбросить заползшую туда злость. Мне удаётся это, и я вижу Тосю: светлое лицо, косу на груди. Мне кажется, Тося смотрела, как мы дрались, и благоразумно не вышла. Мне кажется, она горько плачет сейчас и не может справиться с собой. Встретиться со мной сейчас она явно не в состоянии. Как и я — с ней.
Что произошло со мной сегодня? Первый полноценный день жизни сиюминутной. Я проживаю земную жизнь, участвую в ней. И во мне — чувства, которых прежде я никогда не испытывал.
Ноги выводят меня из Тосиного двора. Саша покинул меня, и я чувствую их неуверенность, переставляются они еле-еле, спотыкаются на ровном асфальте, но они подводят меня к подъезду Ворона и к его квартире.
Рука сама нажала кнопки кода в подъезде и теперь сама выжимает кнопку звонка.
Словно ждали меня, дверь мгновенно распахивается. И… передо мной Софья Петровна.
В квартире Ворона Софья Петровна?!
Она берёт меня за руку и втягивает в дом, ведёт в ванную и сама смывает с моего лица кровь, она вытирает меня, гладит по голове, как гладила Тося, приводит в кухню, усаживает за стол и ставит передо мной чашку с чаем. На столе — ватрушки. Точно такие, какие пекла Анюта.
— Я так рада видеть тебя! — говорит Софья Петровна своим резким голосом. — Так хорошо, что ты пришёл!
— Уснули! — раздаётся голос ещё в коридоре. — Теперь почаёвничаем! — и входит Ворон, в тренировочных штанах; как у физкультурника, и в майке. — Пришёл? Отлично. Как раз к чаю. — Он садится за стол.
Уснули дети, — понимаю я. — Маленькие дети.
Наверное, Ворон влюбил в себя Софью Петровну стихами. Читал и читал ей их, пока она не вышла за него замуж.
А ведь я не знал, что они — женаты!
И тут все мысли исчезают из моей головы. Вершится сиюминутная жизнь: с запахом молока и детства, с тихой музыкой из магнитофона, с голосами двух близких мне людей, включивших меня в свою жизнь.
И неважно, что я по обыкновению молчу. И не важно, что прямо через этот нарядный стол, с чашками, с тарелкой, на которой лежат ватрушки, пролегла наша с матерью дорога, на которой — Павел, тётя Шура, Анюта, Софья Петровна, Ворон, Саша. От одного к другому — ватрушка, чашка с чаем, яблоко.
Всё-таки я сказал, уже стоя у дверей:
— Я пришёл… я не буду играть. Я не могу…
— Там будет видно. Иди-ка пока спать. Я очень рад, что ты пришёл. Ты и мой и Сонин любимый ученик, хочу, чтобы ты знал об этом. Пусть наш дом будет и твоим. Мы всегда ждём тебя. И Тосю, — добавил он.
7
Саша — хороший отец. Он даёт нам деньги на еду. Он покупает одежду мальчику. И игрушки. В нашем доме — малиновая машина, Сашина — в миниатюре, трёхколёсный велосипед, и неизвестно, что раньше научается новый мальчик делать: ходить, бегать, кататься на велосипеде или ездить на машине… Он гоняет по нашему двору то на велосипеде, то на машине, и мы с Тосей не можем угнаться за ним. У Саши с мальчиком весёлые отношения.
— Уши мыл? — спрашивает Саша.
— А ты? — спрашивает мальчик.
Не успевает Саша войти в дом, Павел кричит:
— Три раза!
Конечно, никакие «три раза» не получаются пока, получается «тли лаза», но разве это важно? Важно — то, что он три раза забрался по лестнице туда и обратно на детской площадке. Лестница из восьми перекладин.
Не успев войти, Саша уже рассказывает:
— Ветру надоело сидеть взаперти, и он стал крутиться и бушевать, и сдвинул стенку своей тюрьмы, и вырвался. Сначала подхватил злого колдуна, засадившего его в тюрьму, и понёс его по воздуху. Он нёс колдуна быстрее, чем на самолёте, донёс до горы, со всего маху швырнул с горы, колдун и рассыпался.
— Зачем агрессия? — тихо говорит мать.
— Это же начало! Ветер помчался делать добрые дела: старушку-мать подхватил и принёс к её потерявшемуся сыну. Сын болел и нуждался в помощи. Старушка спасла его. Потом подхватил сына со старушкой вместе и отнёс их к красивой и доброй девушке. Поднял ветер в воздух всех обидчиков и стал их крутить до тех пор, пока из них не повытряслись злые чувства. Тогда опустил их на Землю — жить. Закрутил он, завертел колёса — родил электричество. Захватил пригоршни зерна, засеял поля.
Мальчик любит слушать Сашу. Что больше нравится ему: то, о чём говорит Саша, или то, как говорит? Руками машет, прыгает, скачет. Ничего представлять себе не надо — словно кино смотришь. О чём бы ни рассказывал, всё получается картинами. Его дети-спасатели, его собаки-путеводители, птицы-самолёты имеют имена, клички и поселяются во всех углах нашего жилья, чтобы выбираться из них в сны мальчика.
Но Саша встречается с мальчиком и со мной лишь четырежды в неделю: дважды — на прогулках и дважды дома. Он зарабатывает на жизнь. Это благодаря ему мать смогла год просидеть дома. Саша восстал и против ясель: «Зачем тебе служить?» Даже няню привёл: «Выполнять будет всё, что скажешь!» Мать лишь плечами пожала: «Спасибо, нет необходимости».
Мне Саша тоже родной. Одевает он и меня. И мне покупает «игрушки». Принёс мне вокман: слушай музыку, Иов. Принёс велосипед: катайся, Иов.
С матерью Сашины отношения — странные. Мать часто, забывшись, смотрит на Сашу, и, сделай он к ней шаг, кто знает, может, снова…
Что снова, я не знаю. Это «снова» для меня — перемена всей нашей жизни.
Но Саша к матери шага не делает. Он ведёт себя так, словно она — его сестра, его друг.
А может, я и придумал, что, стоит ему…
Я ухожу сразу к себе, как «только Саша приходит к нам в свои свободные вечера, и не высовываю носа из своей комнаты. И не подслушиваю. Что-то во мне сильно изменилось. Выработались правила, одно из которых гласит: подслушивать нельзя, подсматривать нельзя, на чужом столе рыться нельзя. Мне остается по деталям, по отдельным словам выстраивать свои предположения. Слова до меня долетают — Сашины рассказы мальчику, слова мальчика. И только голоса матери не слышу никогда.
В тот день, когда я подрался с Котиком, пришёл в гости к Ворону и увидел там Софью Петровну, я попал домой поздно, около одиннадцати.
Встретила меня музыка, та, материна, что нутро наизнанку выворачивает. Поворот моего ключа и легкое движение двери ни матерью, ни Сашей услышаны не были.
То, что Саша тут, я почувствовал.
Когда я это почувствовал, музыка оборвалась, и выскочить на лестницу не получится: каждый звук будет услышан.
— Почему ты не смотришь никогда на меня? — тихий голос матери.
— Разве? По-моему, только и делаю, что смотрю. А может, и не смотрю. Собственно говоря, почему я должен смотреть? Сейчас я, видишь, занят, обещал парню дочинить машину. Мне давно уже надо идти.
— Почему ты уходишь, как только Павел уснёт?
— Разве? Не замечал. А может, и ухожу. Дела у меня, наверное.
Никогда я не слышал у матери такого голоса, и я буквально впадаю в наш шкаф для пальто, тяну на себя лёгкую дверцу до тех пор, пока возможно, чтобы не зажать пальцы — ручки-то изнутри нет! Пропасть, ещё раз подраться с Котиком, сунуть голову под ледяную воду, услышать злобный голос отца… что угодно, только не слышать материного жалкого голоса! Но я слышу.
— Хотя бы поговорить со мной можешь. Внимания на меня не обращаешь.
— Ты же колдунья. Приворожи снова, как привораживала, чтобы только тебя видел, чтобы только тебя слышал, чтобы только с тобой…
— Не могу. Ничего не могу. Нету с тобой моей силы.
Неожиданностью звучит голос Сашин рядом со мной. Как оказался у двери, я не услышал.
— Не дала закончить. Парень расстроится. Я, Амалия, не игрушка в твоих руках, можно сломать, можно починить. — И щелчок замка, дверь распахнулась. Щелчок замка — дверь мягко закрылась. Саша-то и смазал дверь, чтобы она не скрипела и не мешала новому мальчику своим скрипучим характером.