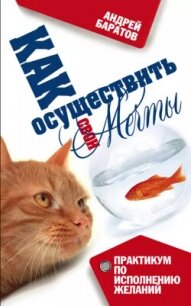Серебряный город мечты (СИ) - Рауэр Регина (читать полностью книгу без регистрации txt, fb2) 📗
— Ты совсем… — свой вопрос я начинаю, давясь словами от ярости.
Не заканчиваю.
Не могу подобрать, какое определение будет лучше.
Охренела?
Чокнулась?
Или спросить, как здесь вообще оказалась? Когда прилетела?
— Я совсем, — она соглашается и покорно, и насмешливо, протягивает бутылку, предлагает, склоняя голову на бок. — Будешь?
— Нет.
Я отбираю почти полную бутылку, за которой, возмущённо восклицая, она вперёд подается, едва не кувыркается, бороздя носом землю, с качелей.
И ругаюсь, перехватывая её, я уже вслух.
— Ты где так набралась, Север?
— Я не набралась, — она возражает, задирает со знакомым упрямством подбородок, и в качели, выпрямляясь, Север вцепляется крепче, отталкивается сильнее. — Я бы, знаешь, хотела, а… не получается.
— Зачем? — я интересуюсь негромко.
Прислоняюсь плечом к железной опоре, что, обжигая холодом, эмоции охлаждает, даёт не заорать на неё благим матом. И мысли как-то… собрать получается, подумать отстранённо, что вот это всё неправильно.
Утро, которое ещё ночь.
Пустая детская площадка.
Она сама.
И разговор, которого быть не должно.
Не надо нам говорить, слишком поздно, не о чем. И потому следует отправить её домой, вернуться самому… домой, а не спрашивать, чего вдруг Кветослава Крайнова попойку до беспамятства решила устроить. И не надо прикидывать, что именно я выскажу Нику, без которого эта самая попойка явно не обошлась.
Какого он её отпустил в таком состоянии?
Любого, Вахницкий.
И чёрта, и хрена.
Она совершеннолетняя, имеет право набираться, шататься, развлекаться как угодно, а вот у тебя права орать на неё как раз нет. Не те отношения. И бить морду Нику за то, что напоил и отпустил, ты тоже права не имеешь, не невесту же твою он спаивал и не сестру.
Просто Север.
Что мне, отвечая, улыбается, раскачивается всё сильнее.
— Праздную.
— Что?
— Предложение руки и сердца. Ты сделал. И мне сделали.
Она говорит звонко.
Громко.
Летит вперёд-назад на каждое слово, почти до солнышка. Мелькают длинные ноги в белых штанах.
— Я поздравляю. Тебя.
Вперёд.
— Вас.
Назад.
— И со скорой свадьбой.
Вперёд.
— И с ребёнком.
Назад.
— Север… — у меня… вырывается.
Беспокойством.
Привычным страхом, который, оказывается, никуда не исчез, не ушёл. Вот он — есть, и сердце знакомо сжимает, заставляет смотреть, как она летит к рассветным облакам, а после падает вниз, проносится над такой близкой землей.
Скрипят надрывно качели.
И её голос.
— Ты. Молодец.
— Север.
— Выбрал. Правильно.
— Остановись.
Я прошу, но она мотает головой, смотрит без отрыва. И в самых первых лучах только взошедшего над горизонтом солнца её глаза сверкают всеми оттенками того самого северного сияния.
В котором я слепну вновь.
Влипаю.
— Поймаешь? Если я сорвусь, ты поймаешь?
— Север!!!
Я кричу, ору, забывая про время и людей, что услышат и проснутся.
Она же отпускает руки.
Летит.
А я ловлю, перехватываю её каким-то чудом в последний момент, в то мгновение, когда я уверен, что не успею, разобьётся. И на землю, об которую из лёгких выбивается весь воздух и обдираются локти, мы падаем вместе, катимся со склона на газон.
Останавливаемся.
И заговорить, глядя в глаза северного сияния, я даже не пытаюсь. Не убираю руки с её спины и затылка, не отпускаю, путаю пальцами волосы, которых не касался уже вечность. Забыл, что на ощупь они мягкие.
Как шёлк.
— Ты поймал, — Север произносит едва слышно.
Двигаются, приковывая внимание, губы.
А она сама приподнимается, упирается руками в траву по обе стороны от моей головы, и её волосы белоснежной волной закрывают нас от всего мира.
От всей Вселенной.
В которой я люблю Алёну, ямки на щеках и шоколадные глаза, а не одну Попрыгунью Стрекозу, шёлковые волосы и глаза другие, невероятные, цвета северного сияния, что наваждение и безумие.
Неизлечимое.
Моё.
— А ты пришла.
— Меня Бьёрн замуж позвал. Он гляциолог, живёт в Норвегии и полгода на Шпицбергене. Я прилетела оттуда. Как считаешь, соглашаться?
— А ты любишь?
— А ты?
— Да, — я отвечаю.
А она, глядя в мои глаза, отзывается эхом:
— Вот и я, да.
Говорит.
Но в четыре утра, когда небо белое и правдивое, я не верю ни ей, ни себе. Не выходит, пусть ещё три часа назад я целовал другую и знал, что люблю. Был уверен, что хочу назвать своей женой, чтоб в горе и радости, чтоб с детьми-внуками и собакой, которую в один из вечеров я бы принёс сюрпризом домой.
— Тогда… поздравляю.
Раз любит, то поздравлять следует.
Так, оно, верно.
Должно быть…
— Я улечу в Норвегию. Боюсь, не смогу быть на вашей свадьбе, — мои слова она не замечает, сообщает тихо, убирает знакомым, её, жестом волосы от глаз.
И я вздрагиваю, когда моего лица тонкими пальцами она невесомо касается.
Очерчивает брови.
Ведет по щеке до губ.
— Прости.
И ты меня.
Ибо у тебя откуда-то выпал норвежский жених, а у меня на восьмом этаже спит беременная невеста, но поцеловать я хочу тебя, Север. Вспомнить и забыть уже навсегда, какие у тебя губы.
Тоже мягкие, податливые.
И будем считать, что это прощание.
Не измена.
Которой всё одно не случается.
Звонит телефон, когда дыхание становится на двоих, чувствуется тепло, которое сразу в огонь, полыхает… и Север, вздрагивая, отстраняется. Становится осмысленным её взгляд, а незнакомый мужской голос говорит про Даньку.
Просит забрать мою сестрицу домой…
…домой, добежав до пруда, мы с Айтом возвращаемся уже около восьми. Заглядываем по пути в только открывшуюся пекарню, где колаче, кои мысленно я упорно обзываю ватрушками, покупаем.
К завтраку.
И потому что Север любит.
Улыбается неуверенно, когда бумажный пакет, заходя в кухню, на стол я ставлю.
— Тут с вишней. Повидлом. И черникой.
— Спасибо.
Пожалуйста.
Или не за что.
Или что-то ещё бессмысленное и общепринятое, что сказать, дабы заполнить невыносимую тишину, надобно. Только вот не говорится, не придумывается. Не помог проветрить голову двухчасовый забег, а потому я молчу, не нахожу слов. Лишь смотрю, как кашу, что ещё варится, Север помешивает, возвращает на место крышку, и к столу, на котором лежит откуда-то взявшийся сыр, она возвращается.
Нарезает тонко.
Старательно.
— А я тут… завтрак, — Север, поднимая голову, произносит вымучено, и в глазах её настороженность видится. — Каша рисовая. Ты раньше… вроде ешь… Или, если нет, то могу…
— Я ем.
— Хорошо.
Плохо.
Что голову от неё всё же снесло, не вышло удержаться, не касаться. Много лет, мать его, выходило, а тут… там, в свете фонарей под стенами иезуитского колледжа, не вышло. Не получилось вспомнить, почему целовать, если очень хочется, нельзя.
Получается теперь.
Понимается, глядя на неё, окончательно, что… что ничего у нас быть не может. Не выйдет, ибо слишком поздно, а значит, держаться от Кветославы Крайновой следует подальше. И вчера, значит, была чудовищная ошибка, о которой лучше забыть.
Не вспоминать.
Как и о многом другом.