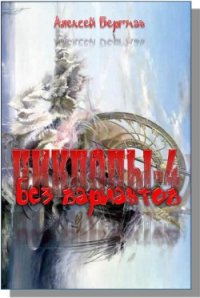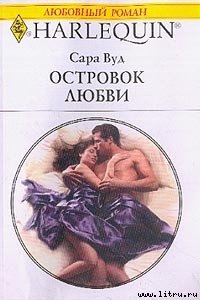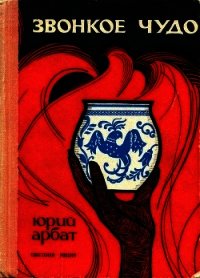Парадиз (СИ) - Бергман Сара (читаем книги онлайн бесплатно полностью txt) 📗
Отекает пристальный взгляд мглистых глаз, и она отворачивается, не позволяя дальше смотреть.
Дебольский хрипло, разочарованно выплюнул из себя спертый воздух.
Все было не то и не так.
— Нет, — и выдернул уже несколько вялый член.
Наташка послушно перевернулась на спину, а Дебольский уже не замечал, что она перестала помогать и участвовать, плечи ее сжались, и глаза стали напряженными, полными такого же, как у него, раздражения.
Дебольский навалился сверху, принялся целовать жену. Глубоко проталкивая язык, стискивая ее грудь. Но возбуждение не возвращалось.
Он просунул руку в горячую влажную тесноту между женой и простыней, на которой они лежали. Вопросительно, на пробу коснулся заднего отверстия. Но она тут же недовольно дернулась.
Они никогда не занимались анальным сексом: Дебольский этим брезговал, никогда не предлагал.
Но глаза у Наташки стали испуганными — будто он ее заставлял. И сникший член никак не хотел входить, хотя она, отворачиваясь и стараясь не смотреть, все же раздвигала ноги, как могла широко. Но не получалось.
— Возьми в рот, — прошептал он, тяжело дыша, уткнувшись ей в шею.
И тут же почувствовал, как окаменело Наташкино тело. Почувствовал и разозлился. Разом выплеснулась вся вскипевшая досада.
— Ну возьми, — сдернулся с нее и, хотя ему уже ничего не было нужно, принялся настаивать: — Что в этом такого? Это нормально! Все так делают! — и почему-то возмутился ее ханжеством. Хотя раньше всегда понимал, обходился, довольствовался.
— Саша, — Наташка дрожа села и сразу — к его неудовольствию, неприятию, отвращению — потянулась прикрыться простыней. — Саша, что с тобой происходит? — в голосе ее прозвучало что-то горькое, звенящее. — Давай поговорим.
Дебольский почувствовал, как разочарование выплеснулось нестерпимо острой досадой:
— Да не хочу я разговаривать! — почти закричал он.
Внутри его кипела, разрывалась, пенилась запутанная, скомканная, раздирающая завязь страха, злости, разочарования. И неутолимого возбуждения.
Он скатился с кровати. Неловко свезя подушки. Уронив на пол скомканное покрывало.
И принялся одеваться.
— Саша! — жена в какой-то исступленной дрожи так и осталась сидеть, прижимая к себе большую мятую простыню. — Саша! — закричала она, глотая унижение отчаяния.
Но он, едва натянув на голое тело брюки и ботинки, выскочил из смрадного, пахнущего сексом, неудовлетворенностью, несостоятельностью и унижением, гостиничного номера, с шумом захлопнув за собой дверь.
40
Попову, казалось, стало лучше. Начиная со второй недели после похорон, он будто ожил, почти осознанно работал и даже слушал, что ему говорили. Начал ходить обедать вместе со всеми. И теперь за маленьким столиком кафе занимал место напротив Зарайской. Попов мало ел, а она утопала в приторной сладости своих пирожных. Но оба почти не говорили.
Остальные же, вольно или невольно поглядывая на тот столик, подспудно боялись, стыдились нарушить это единение недружественной дружбы, поэтому на общество Зарайской больше никто не претендовал. А Попов, поначалу единственный откровенно ее не выносивший, вдруг проникся, затеплел в присутствии.
Впрочем, нигде больше это не проявлялось. И их молчаливое бдение за обедом ничем не походило на ее разговоры с Дебольским.
Попов, скорее всего, просто не хотел быть один и тянулся к женскому обществу, к которому так привык и в котором так нуждался. Зачем это звонкой, блестящей Зарайской — трудно было сказать.
Но она ничем не возражала против такой компании. Даже напротив, предпочитала ее всем остальным. И Жанночка, на время обеда лишавшаяся солнечных лучей покровительства шефини, терялась, блекла, увядала.
Чахла без Зарайской и Эльза Павловна. Впрочем, в офисе она в таком состоянии находилась перманентно. Ошибалась, путалась, конфузилась — страдала. И мысли ее всеочевидно заполняли лишь оставшиеся дома дети, а заниматься работой — непонятной, непривычной и уже противоестественной ее натуре — Эльзе Павловне было невыносимо и тягостно.
А главное, она никак не могла освоиться в коллективе, и в невместности, в домотканности своей была нелепа и глупа. Чувствовала это, понимала и на всех обижалась, как маленький ребенок, тая легко читаемую обиду, причиной облекающего ее дискомфорта считая всех окружающих.
Кроме, пожалуй, начальницы. В отношении которой демонстрировала странную смесь почти рабского, предбожественного поклонения и полного непонимания. Само поведение, само существование Зарайской, ее чрезмерная хрупкость и худоба, ее возбуждающее тело, дымность глаз и улыбка, обращенная ни к кому, казалось, вызывали в ней недоумение, будто та не укладывалась в привычные жизненные представления — женщины и матери — Эльзы Павловны. А то, чего она не понимала, пугало. И восхищалась она шефиней скорее по обязанности, с острым оттенком ритуальности. На деле же, о чем бы ни говорила с ней блистательная Лёля Георгиевна, та лишь бросала на нее взгляд полный немого, пугливого недоумения и уклончиво поводила плечами.
Зарайская это сознавала. И на тренинги брала с собой Жанночку, оставляя Эльзу в улежной безопасности уже привычного, халатно-уютного отдельского кабинета. Только иногда, будто забываясь, тянулась к той, как ко всем прочим, но натыкалась на настороженную конфузливость и, опамятовавшись, отступала.
Она, не скрывая, считала, что присутствие Эльзы в «Лотосе» сиюминутно, и не хотела по-настоящему втягивать ту в давящий, настойчиво конкурентный водоворот жизни. Блюла иллюзии.
В то время как сама ни минуты не могла провести спокойно. Она снова набирала группы и тасовала списки. Даже в перерыве за кофе на коленке набрасывала в блокноте планы новых методичек. Планировала собеседования, демонстрации, отчеты для дирекции, мероприятия, мелкие корпоративы, и от ее оборота кружилась голова.
Ее звонкий переливчатый смех, угар мелькающей юбки, манкая ломкость изменчиво верткого, режуще сексапильного тела притягивали, соблазняли, раскаляли присутствием. Опаляя всех попадающих в ее ареал.
На столе Зарайской сменялась гекатомба букетов, которую она принимала как должное, никогда не спрашивая от кого.
Позволяя Азамату рисовать на ее теле цветы и ракушки. Оплетать тонкую щиколотку вязью колокольчиков.
И Деболькому хотелось спросить: делает ли он так же со своей невестой? — как, бывает, мужчина на протяжении жизни дарит каждой женщине, проходящей через его постель, томик Уитмена.
Но в этом случае Дебольскому почему-то казалось, что нет. Он не мог представить себе колокольчики, цветущие на ноге какой-то простушки из Фрязино.
Букеты Азамат приносил теперь каждый день. И его трепетные тюльпаны сменились вызывающими розами. В среду он еще раз забирал Зарайскую на ночь. И на следующий день она впервые пришла на работу в том же платье, что и накануне. И это показалось Дебольскому непростительным, почти кощунственным. Хотя и сам он, и все прочие так делали. Но не Зарайская. С появлением которой иногда начало казаться, что все прочие ходят в офис только для того, чтобы взглянуть на ее платье, на искристый перебор сборки, ласкающей колени, на захватывающую взгляд оплетку рукава, скрывающую рдеющие, воспаляющие душу цветы.
И каждый день Дебольский тянул время, чтобы позже приходить домой. Там воцарилась нудная, гнетущая хмарь. И оба они не знали, что с этим делать. Будто повисла длительная пауза, и чем дальше, тем сильнее натягивало нервы, зудело тусклое, серое недовольство. И его почти физически тошнило от неизменности, постоянства собственного быта.
Дебольский больше не притрагивался к жене. И сама мысль эта сейчас была ему невыносима: тянула за собой разочарование и унижение, липкое сознание несостоятельности.
Он все хуже спал. И больше курил.
Теперь недовольны друг другом были уже оба. И Наташка, которая, похоже, тоже устала играть в понимание, почти не разговаривала с ним. Не то чтобы злилась, но на лице ее явственно было написано непримиримое, негодующее недовольство.