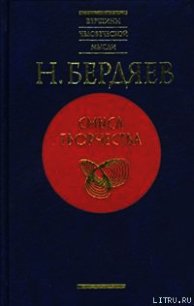Типы религиозной мысли в России - Бердяев Николай Александрович (читаемые книги читать онлайн бесплатно полные .TXT) 📗
Русский духовный ренессанс имел несколько истоков. Как это ни странно на первый взгляд, но одним из его истоков был русский марксизм конца 90-х годов прошлого века. О нем я могу говорить как о пережитом опыте, так как сам был одним из выразителей перехода от марксизма к идеализму, а потом к христианству. Русский марксизм 90-х годов сам уже был кризисом сознания русской интеллигенции. В нем было подвергнуто критике традиционное интеллигентское сознание второй половины XIX века, которое выразилось главным образом в народническом социализме. Русский марксизм как идеологическое течение не был изначально усвоением тоталитарного марксистского миросозерцания, не был продолжением целостного революционного настроения предыдущих поколений. В нем обнаружилось большое культурное усложнение, в нем пробудились умственные и культурные интересы, чуждые старой русской интеллигенции. И прежде всего это обнаружилось в сфере философии. Часть русских марксистов, с более высокой умственной культурой, изначально усвоила себе идеалистическую философию Канта и неокантианцев и пыталась соединить ее с социальной системой марксизма. Это течение представлено было С. Булгаковым и мной, П. Струве, С. Франком и некоторыми другими. Марксизм по своему характеру располагал к построению широких и целостных историософических концепций, в нем были сильные мессианские элементы. Марксизм имел более философские истоки, чем народничество. Я убежден в том, что для некоторых, например для о. С. Булгакова, марксизм был своеобразной теологией и они вкладывали в него свои религиозные инстинкты. Сам я в своей первой книге "Субъективизм и индивидуализм в общественной философии", вышедшей в 1900 г., пытался построить целостный синтез марксизма и идеализма. Может быть, более других марксистов этого течения я исповедовал пролетарский мессианизм, но обосновывал его не материалистически. Я всегда был абсолютистом в отношении к истине, смыслу и ценности, и я помню, как некоторые мои товарищи социал-демократы говорили, что, в сущности, я стою на религиозной почве и нуждаюсь в религиозном смысле жизни. Моя религиозная жизнь определялась не столько сознанием греха и исканием спасения от гибели, сколько исканием вечности и смысла. Этому типу не свойственны резкие обращения. Я прошел философскую школу немецкого идеализма, и мне представлялась нелепой и ничего не значащей идея о существовании классовой истины или классовой справедливости. Истина и справедливость абсолютны и вкоренены в трансцендентальном сознании, они не социального происхождения. Но существуют психологические и социальные условия, благоприятные или неблагоприятные, для познания человеком истины или для осуществления человеком справедливости. Нет классовой истины, но есть классовая ложь, классовая неправда. И вот я пытался построить теорию, согласно которой психологическое и социальное сознание пролетариата, как класса свободного от греха эксплуатации и эксплуатируемого, максимально совпадает с трансцендентальным сознанием, с нормами абсолютной истины и справедливости. Таким образом, пролетарский мессианизм утверждался не на материалистической почве. Основным был для меня вопрос о соотношении трансцендентального и психологического сознания. Психологическое же сознание для меня определялось экономикой и классовым социальным положением. Я хотел преодолеть релятивизм марксизма и соединить его с верой в абсолютную истину и смысл. Вспоминаю резкие споры, которые я имел на эти темы с Луначарским в марксистских кружках. Когда я молодым студентом имел свидание в Швейцарии с Плехановым и спорил с ним о материализме, он мне сказал: "Вы не останетесь марксистом, с такой философией нельзя быть марксистом, вы вспомните мое предсказание". Для него марксизм был неразрывно связан с материализмом. Когда я увидел Плеханова в 1904 г., он мне напомнил о своем предсказании. Я был в социальном отношении левым марксистом, был связан с революционными кругами, но мои товарищи социал-демократы всегда считали меня еретиком и часто враждовали против меня. Когда я был в ссылке на севере и имел встречи с огромным количеством ссыльных социал-демократов, между прочими моими товарищами по ссылке были А. Луначарский и А. Богданов, я всегда чувствовал, что меня считают по духу чужим человеком, человеком иной веры, иного миросозерцания. Уже очень скоро я напечатал статью "Борьба за идеализм", в которой обозначился для меня переход от марксизма к идеализму. Книга отца С. Булгакова называлась "От марксизма к идеализму". В 1902 году вышел сборник "Проблемы идеализма", в котором приняли участие наряду с бывшими марксистами и представители более академической и спиритуалистической философии, как П. Новгородцев и князья С. и Е. Трубецкие. Произошло перекрещивание нескольких течений.
Другой исток культурного ренессанса начала века был литературно-эстетический. Уже в конце XIX в. произошло у нас изменение эстетического сознания и переоценка эстетических ценностей. То было преодоление русского нигилизма в отношении к искусству, освобождение от остатков писаревщины. То было освобождением художественного творчества и художественных оценок от гнета социального утилитаризма, освобождением творческой жизни личности. А. Волынский и Д. Мережковский были одними из первых в этом изменении эстетического сознания и отношения к искусству. Эта переоценка ценностей прежде всего выразилась в новой оценке русской литературы XIX века, которую никогда не могла по-настоящему оценить старая общественно-публицистическая критика. Появился тип критики философской и даже религиозно-философской наряду с критикой эстетической и импрессионистской. Увидели огромные размеры творчества Достоевского и Толстого, и началось их определяющее влияние на русское сознание и русские идеологические течения. Уже в конце 80-х и начале 90-х годов формировались новые души, открывшиеся влиянию Достоевского и Толстого, независимо от появления новой критики. Необходимо отметить Л. Шестова, очень связанного с Достоевским, Толстым и Ницше, одинокого, оригинального мыслителя со своей темой, но стоявшего в стороне от всех течений и от христианского ренессанса в собственном смысле. Про себя я могу сказать, что Достоевский и Толстой имели основное значение в моей внутренней жизни. Прививка, полученная от них, предшествует влиянию немецкого идеализма и марксизма. Нужно отметить появление книги Д. Мережковского о Толстом и Достоевском, лучшее из всего им написанного, в которой он пытался по-своему раскрыть религиозный смысл творчества величайших русских гениев. Он слишком приурочил этот религиозный смысл к своей схеме о духе и плоти, но нельзя отрицать заслуги его в этом отношении. Мережковский обозначал пробуждение религиозной тревоги в культуре, в литературе. Очень быстро художественно-эстетический ренессанс приобрел у нас окраску мистическую и религиозную. Хотели выйти за пределы искусства, литературы. И это было характерно русское явление.
В 1902-1903 годах были организованы в Петербурге религиозно-философские собрания,<<1>> в которых произошла встреча группы представителей русской культуры и литературы с духовенством, с иерархами Церкви. Председательствовал на этих собраниях тогда архиепископ Финляндский, ныне митрополит Сергий, возглавляющий патриаршую Церковь. Среди участников этих собраний нужно отметить В. Розанова, Д. Мережковского, Н. Минского, В. Тернавцева, А. Карташева. На собраниях этих был поставлен целый ряд острых проблем "нового религиозного сознания", обращенных к иерархам Церкви. Основным было влияние проблематики В. Розанова. Он был самой крупной фигурой собраний. В сущности, произошло столкновение Розанова, гениального критика христианства и провозвестника религии рождения и жизни, с традиционным православным, монашески-аскетическим сознанием. Были поставлены проблемы отношения христианства к полу и любви, к культуре и искусству, к государству и общественной жизни. Часто это формулировалось как проблема отношения христианства к "плоти", что, по моему мнению, было философски неправильной терминологией. Наряду с темами Розанова центральную роль играли темы Достоевского и Толстого. Светские участники собраний были слишком ориентированы на литературу, и социальные проблемы были сравнительно слабо выражены. В широких кругах левой интеллигенции религиозно-философские собрания встречали враждебное к себе отношение.