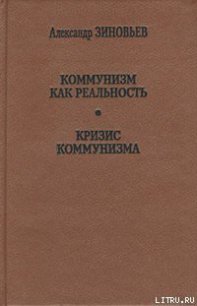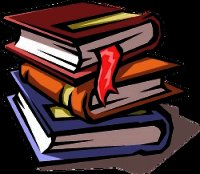Падение великого фетишизма. Вера и наука - Богданов Александр Александрович (читаем книги онлайн бесплатно txt) 📗
Таким образом, вещь раздваивается в мышлении: один раз выступает как «следствие», как нечто пассивно-обусловленное в своих изменениях, другой раз — как «причина», как активно-организующее начало, вызывающее эти изменения. Такое раздвоение является в то же время удвоением, потому что для примитивного познания, которому чужды тонкости и абстракции, которое насквозь конкретно, два понятия — всегда два объекта, не иначе. Это неизбежно, потому что, как мы знаем, и самое обособление «вещей» или «действий» в опыте совершается именно посредством слов-понятий; что отдельно обозначено, то уже и отделено в опыте коллектива. Вещь, отдельно обозначаемая в виде причины и в виде следствия, тем самым образует две различных вещи для наивно-непосредственного мышления до-культурного человека.
Перед нами тот всеобщий дуализм «вещей», который носит также название анимизма. Вещь-причина и вещь-следствие, это «душа» вещи и ее «тело» по обычной терминологии. Вначале они совершенно подобны между собою; тех различий, которые мы всегда подразумеваем, говоря о «духовном» и «телесном» вначале вовсе нет. «Невидимость», «неосязаемость» и прочие специфические свойства «души» — продукт сравнительно очень позднейший. Для первобытного человека его душа — простое повторение его тела, со всеми чувственными свойствами и потребностями; она отличается только своей организаторской функцией, своей «властью» над телом [23]. И только отделившись от тела в понятиях анимиста, она начинает свой особенный путь развития, который все более лишает ее образ живой конкретности или «материальности».
Анимизм возник из той первичной формы причинности, которая отражает авторитарное сотрудничество; он стал — или вернее, он с самого начала был — всеобщим благодаря тому, что познание причин находилось еще в зародыше, и в изменениях всякой вещи было много такого, чего не удавалось связать с внешними причинами, так что приходилось принимать причину внутреннюю, каковой и являлась «душа».
Отсюда легло понять, каким способом растущее познание постоянных связей в мире вещей могло и должно было приводить к ограниченно анимизма, к сохранению «душ» только за наиболее сложными, «живыми» вещами. Различные действия тех вещей, которые мы теперь относим к «мертвой» природе, с развитием опыта все в большей массе случаев оказывались «вызванными» движением других вещей. Характер причинной схемы оставался все тот же: отношение, подобное связи организаторской и исполнительской функции; но целая обширнейшая область природы постепенно утрачивала в опыте людей самостоятельно-причинное значение, то, которое выражалось в виде «души». На практике все более обнаруживалось, что хотя неодушевленные объекты могут своим движением вызывать движение других объектов, но собственное движение они для этого должны еще получить извне.
Таким образом очень многие «вещи» мало-помалу потеряли своего внутреннего организатора с самостоятельной («свободной») волей, стали «бездушными», пассивными, инертными. Настоящая «свободная воля», т. е. чистая организаторская причинность стала привилегией живых существ, или предметов «одушевленных». И круг этих предметов все больше суживается: вслед за неорганическими «вещами» обычной обстановки людей, из него устраняются растения, а еще позже — «небесные» явления, гром с молнией, облака, солнце и другие светила. [24]
Цепи неодушевленных причин, как бы они ни удлинялись благодаря прогрессу познания, каждый раз должны, конечно, упираться в какую нибудь причину одушевленную, т. е. в какую-нибудь настоящую организаторскую волю, — ибо такова основная потребность авторитарного мышления. Но и эта организаторская воля, до которой дошла цепь пассивных причин-следствий, в свою очередь, как показывает социальный опыт, сама может быть подчинена другой воле — т. е. авторитарно-обусловлена ею. Если полет брошенного камня вызван движением руки, а движение руки — волей бросившего человека, то сам он подчиняется, — или, что то же, его воля «причиняется» волей его руководителя, напр., патриарха, племенного вождя. Этот, в свою очередь, повинуется заветам предков-организаторов, как те — заветам еще более отдаленных предков. Таким образом цепь авторитарной причинности продолжается далее и далее вверх. И мы уже знаем, что на этом именно пути происходит развитие культа предков — религиозное превращение древнейших организаторов. В них-то авторитарное мышление и находит свои «высшие», а затем «верховные» причины вещей: в этих образах авторитарных заместителей коллективной силы, в различных божествах, которые затем постепенно из организаторов родовой и племенной жизни становится организаторами обширнейших циклов-явлений, а в конце концов — организаторами мира.
Надо заметить, что цепи причинности в авторитарной фазе ее развития не могут развертываться до бесконечности, т. е. быть неопределенно-длинными. Познание отражает общественную практику, а в этой практике авторитарные системы всегда замкнуты и ограничены. Будет ли это патриархально-родовая группа, или племя, объединенное под властью вождя, или огромная восточная деспотия, или феодальная организация средневекового типа, — всюду такая система заканчивается сверху на каком-нибудь верховном авторитете, над которым уже нет никакой власти, и от которого всякая власть практически и сходит. Социальная цепь авторитарной причинности, следовательно, всегда имеет свой предел, у нее есть, так сказать, верхний конец; и такова же неизбежно познавательная схема причинности, создаваемая перенесением на другие области опыта тех соотношений, которые даны в социальном авторитарном комплексе. Поэтому, в развитом авторитарном мировоззрении все нити познания неизбежно сходятся к одному центру — божественной первопричине, источнику всех частных, ограниченных и промежуточных причин.
Тот же абсолютный центр принимается тогда, естественно, и как исходная точка всякого познания: разум человека — слабое отражение его разума, высшая истина — его откровение, по сравнению с которым мелкие, обыденные истины, доступные опытному сознанию, обладают лишь ничтожной ценностью, «как фонарь при свете солнца». И опять-таки, очень легко понять и представить себе тот непрерывный ряд переходов, в котором простые познавательные заветы предков исторически превращались в «откровение верховного существа», по мере того как из трудовой жизненной связи потомков с предками возникал культ предков-организаторов, а из него в свою очередь — широкое и целостное религиозное миропонимание.
Подведем теперь итоги первой фазы развития познавательного фетишизма.
Происходил ли уже здесь отрыв мышления от трудовой коллективной практики, аналогичный тому, какой мы видели в авторитарной стадии фетишизма норм? Да, происходил, но, разумеется, иначе.
Отрыв начинается тогда, когда к «основной метафоре» присоединяется первичная, авторитарная «причинность». Сама по себе, основная метафора отнюдь его не заключает. Применяя слова-понятия, возникшие из коллективно-трудового процесса, к разнообразным явлениям природы, она скорее, напротив, как бы вводит эти явления в систему трудовой жизни, — вводит познавательно, представляя их в виде особых деятелей, активно-трудовым путем влияющих на человеческую практику положительно или отрицательно, в смысле сотрудничества или в смысле разрушения. Тут внешние деятели еще непосредственно и неразрывно связываются для познания именно с данной социально-производственной системой, мыслятся только в соотношении с нею. А когда зарождается причинное познание, то эта связь мало-помалу оттесняется и слабеет, становится более косвенной и менее живой.
Создаются причинные цепи, в которых один внешний деятель соединяется с другим, определяющим его собой так, как организаторская воля определяет собой исполнение; этот другой в свою очередь ставится в такую же зависимость от третьего, третий от четвертого, и т. д. Эти соотношения и выступают на первый план; связь каждого звена в отдельности с коллективно-трудовым существованием людей чувствуется гораздо меньше, чем связь его с соседними звеньями. Иллюстрируем это на конкретных познавательных комбинациях, для чего возьмем один из наших прежних примеров.