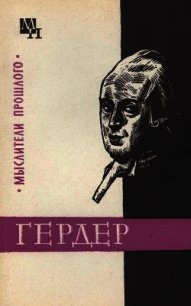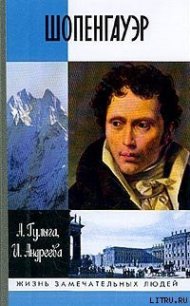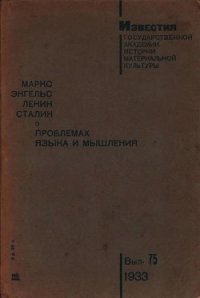Немецкая классическая философия - Гулыга Арсений Владимирович (серии книг читать онлайн бесплатно полностью .TXT) 📗
Еще в древности появилась просветительская концепция религии — «страх породил богов». В дальнейшем эта концепция была уточнена: страх подготовил почву, а бессовестные обманщики навязали темному народу представления о тех или иных богах. «…Бросьте взгляд на большинство народов и эпох, исследуйте те религиозные принципы, которые фактически господствовали в мире, — вряд ли вас можно будет убедить в том, что они суть нечто большее, чем бред больных людей…» [126] таков вывод, к которому пришел почитаемый Кантом Юм. Но почему «обман», почему «бред» получил столь широкое и прочное распространение? Как возникла идея страдающего Бога? По мнению Юма, религия — это необъяснимая загадка; единственный результат ее изучения — сомнение и отказ от каких-либо оценок.
Немецкое Просвещение, выросшее на почве протестантизма и пиетизма, всегда смотрело на религию через исторические очки. Лессинг в «Воспитании человеческого рода» набросал схему развития религиозных верований как нравственного совершенствования людей и, заглядывая в будущее, предсказал наступление времени, когда мораль сможет обходиться без веры в высшее существо. Кант всматривается в прошлое, ищет социально-психологические корни веры в Бога и видит в человеке (человечестве) борьбу двух начал — добра и зла. Зло изначально преобладает, но задатки добра дают о себе знать в виде чувства вины, которое овладевает людьми. Человек, по Канту, «никогда не свободен от вины». [127] Переживание вины (своей собственной или чужой, которой ты лишь сопричастен) — основа морали. Спокойная совесть изобретение дьявола, скажет впоследствии Альберт Швейцер (защитивший диссертацию по философии религии Канта). Человек, который «всегда прав», погиб для морали. Нравственное обновление возможно только как борьба с самим собой. Отыскивая корни религии, Кант вдруг набрел на первоистоки нравственности, обнаружил ее фундамент. И встретил знакомого нам «конструктора» — воображение. Присмотримся к тому, как оно работает в данной области.
Страх породил богов, рассуждает Кант, а боги установили запреты. Сильнее всего страх в воображении. Боязнь нарушить табу, страх перед тем, что это уже совершилось, рождают идею искупительной жертвы. Когда жертвоприношение превращается в самопожертвование, происходит «нравственно-религиозная революция». Человек, решившийся на самопожертвование, уподобляет себя Богу. Так возникает образ страдающего «сына божьего», вестника, который одновременно и Бог и человек. «Учитель евангельский, — пишет Кант, — провозгласил себя посланником Неба», объявил старую, рабскую веру в формулы и обряды чем-то само по себе ничтожным, а моральную веру единственно душеспасительной. Своей жизнью и своей смертью он дал пример подлинной человечности. Этой смертью его публичная история и кончается. Приложенная к ней как дополнение более таинственная и совершившаяся только перед глазами близких ему лиц история воскресения и вознесения на небо «не может без ущерба для ее исторического достоинства быть использована религией в пределах только разума». [128]
Сопоставлению христианства с ветхозаветной религией Кант придает принципиальное значение. Десять библейских заповедей изложены как «принудительные законы», они устремлены на внешнюю сторону дела, в них нет требования морального образа мыслей, что является главным для христианства. Моисей хотел основать только политическую, а не этическую общину. Иудаизм, по Канту, «не религия, но лишь объединение массы людей, которые, поскольку они принадлежали к одному особому племени, организовались в единую общность под началом чисто политических законов и, стало быть, не образовали церкви». [129] Возникновение христианства означало полное отрицание ветхозаветной веры. Это была «революция в религии». Только с христианства Кант начинает «всеобщую церковную историю».
В учении о религии четко проявился историзм кантовского мышления: Кант видит изначальное, по сути дела безрелигиозное состояние людей, затем первый, еще несовершенный тип религии, который называет «богослужебным». Высший этап — «вера разума». Богослужебная религия рассчитана на снискание благосклонности верховного существа, которое можно умилостивить жертвами, обрядами и соблюдением заповедей. Человек льстит себя мыслью, что Бог может сделать его счастливым без каких-либо усилий с его стороны; нужно только соответствующим образом попросить Бога и предпринять кое-какие внешние действия. По сути дела речь идет о сделке. Священник выступает в роли посредника; в богослужебной религии он жрец, носитель ритуала, церковь здесь храм, где ритуал свершается. Религия разума — это чистая вера в добро, в собственные моральные потенции, без примеси какого бы то ни было расчета, без перекладывания ответственности на высшие силы. Это религия доброго образа жизни, которая обязывает к внутреннему совершенствованию. Священник в ней просто наставник, церковь — место собраний для поучений.
Страх породил богов, а боги установили запреты, но потом, говорит Кант, в дело включилась совесть. Именно она является главным регулятором религиозности. Совесть означает совместное ведание, знание; образ другого знающего, от которого нельзя спрятаться, вплетается в мое самосознание. Я совершил проступок, никто не может уличить меня в содеянном, и все же я чувствую, что есть свидетель и обвинитель. Совесть — это страх, ушедший внутрь, направленный на самого себя. Самый страшный вид страха. В церковной вере он объективирован в виде Бога, который устанавливает заповеди и карает за их нарушение, но прошение и милость которого можно снискать. В чистой религии разума сделка с Богом (т. е. сделка с совестью) невозможна. Остается только не нарушать запреты, следовать категорическому императиву. «…Все, что человек сверх доброго образа жизни предполагает возможным сделать, чтобы стать угодным Богу, есть лишь иллюзия религии и лжеслужение Богу» [130] таков символ веры кёнигсбергского реформатора (современники сравнивали Канта с Лютером; он, хотя и не создал новой церкви, нашел многих последователей). Между тунгусским шаманом и европейским прелатом по сути дела нет разницы. И тот и другой полны одного стремления — направить к своей выгоде невидимую силу, которая повелевает судьбами людей. И лишь о том, как к этому приступить, они думают различно.
Кант отвергает молитву как средство общения с Богом (когда встречают человека, который громко говорит сам с собой, это может вызвать подозрение, что у него легкое умопомешательство), хождение в церковь, носящее характер идолослужения, и другие ритуальные обряды. По своему содержанию религия ничем не отличается от морали; существуют различные виды веры, но религия едина, как едина мораль. Бог — это моральный закон, как бы существующий объективно. Впрочем, не только Кант не стоик. Для стоика высшее благо аскетизм и даже добровольный уход из жизни. Самоубийство, по Канту, нарушение долга. Он возлагает надежду не только на ригористическое служение долгу (как думают многие знатоки Канта). С годами он внял критическим голосам, обвинявшим его в черствости, а может быть, и сам понял силу аффекта, влекущего одного человека к другому, объединяющего людей узами более прочными, чем страх и обязанность. Так или иначе, но, чем старше становился Кант, тем охотнее он рассуждал о любви.
Любовь и долг — веши разные. Таков первоначальный тезис. Долг любить бессмыслица. Когда говорят: «Полюби ближнего своего, как самого себя», то это не значит, что ты сначала должен полюбить человека и, уже повинуясь этой любви, делать ему добро. Наоборот, делай своим ближним добро, и это пробудит в тебе человеколюбие. Делать добро другим людям по мере возможности есть долг независимо от того, любим мы их или нет, и этот долг остается в силе, даже если бы мы были вынуждены сделать печальное открытие, что человеческий род недостоин любви. Так говорится на страницах «Метафизики нравов», наиболее поздней этической работы Канта. Антитезис неизбежен, он появляется на последующих страницах той же работы, один из разделов которой называется «О долге любви к другим людям». Читатель в недоумении. И снова спасает оговорка: во втором случае под любовью подразумевается не чувство, а некий общий принцип. Теперь остается обнаружить синтез, который бы снял остроту крайних формулировок. Мы находим его в статье «Конец всего сущего», в рассуждениях о том, как любовь помогает выполнению долга: «То, что человек не любит, он делает настолько убого, подчас так уклоняясь с помощью софистических уловок от велений долга, что вряд ли можно представить себе последние в качестве мотива действия без одновременного вмешательства первых…. Свободный способ мышления — равно далекий как от раболепия, так и от распущенности — вот благодаря чему христианство завоевывает сердца людей, рассудок которых уже просветлен представлением о законе их долга. Чувство свободы в выборе конечной цели внушает им любовь к моральному закону». [131] В трактате о религии та же оценка христианства, те же мысли: «Высшая, для человека никогда не достижимая вполне цель морального совершенства бренных творений есть любовь к закону. Соответственно этой идее в каждой религии принцип веры должен был бы быть таким: „Бог есть любовь“». [132]