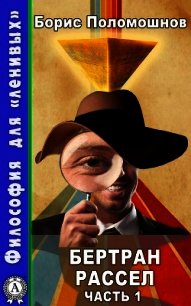Во что я верю - Рассел Бертран Артур Уильям (читать книгу онлайн бесплатно полностью без регистрации .TXT) 📗
Другой полюс любви – благожелательность. Люди жертвовали собой, помогая прокаженным, и любовь, которую они при этом испытывали, не могла содержать никакого эстетического наслаждения. Любящие родители обычно радуются, когда их дети хорошо выглядят, однако их чувства к детям неизменны и тогда, когда об этом говорить не приходится. Было бы странно называть чувства матери к больному ребенку благожелательностью, потому что мы привыкли обозначать этим словом весьма слабую эмоцию, состоящую на девять десятых из притворства. Однако трудно найти какое-то другое слово, чтобы описать желание блага для другого человека.
Это желание может быть сколь угодно сильным в случае родительской любви. В других случаях оно менее интенсивно; весьма вероятно, что всякая альтруистическая эмоция является своего рода всплеском родительской любви, а иногда ее сублимацией. За неимением лучшего слова назову эту эмоцию «благожелательностью». Хочу подчеркнуть, что речь идет именно об эмоции, а не о принципе; я не вкладываю в это слово чувства превосходства, которое иногда с ним ассоциируют. Слово «симпатия» отчасти выражает то, что я имею в виду, однако оно не передает важный в данном случае оттенок – активность.
Любовь в самом полном своем выражении соединяет два взаимосвязанных начала – радость и благожелание. Наслаждение, которое получают родители от красивого и удачного ребенка, соединяет в себе оба начала. То же и с половой любовью, в лучших ее проявлениях. Но в половой любви благожелательность существует лишь при условии полного обладания, в противном случае она разрушается ревностью; впрочем, ревность иногда даже усиливает радость созерцания. Радость без желания блага может быть жестокой, желание блага без радости легко становится холодным и чуть высокомерным. Желающий любви человек хочет, чтобы она содержала оба начала.
Это не относится к случаям крайней слабости, таким, как детство и серьезная болезнь. И наоборот, в случаях крайней силы нуждаются скорее в восхищении, чем в благожелательности. Так обстоит дело с властителями и красавицами. Мы желаем, чтобы другие люди относились к нам хорошо: пропорционально тому, насколько сами нуждаемся в помощи или опасаемся, что нам будет причинен вред. По крайней мере, такова биологическая логика ситуации – пусть она и не всегда оправдывается в жизни. Мы желаем любви, чтобы избежать чувства одиночества, чтобы быть понятыми.
Это скорее симпатия, а не благожелательность; человек, чувство которого нас удовлетворяет, не просто хорошо к нам относится – он знает, в чем состоит наше счастье. Но это уже принадлежит к другому элементу благой жизни, а именно к знанию.
В совершенном мире каждое существо является для любого другого существа объектом самой полной любви, состоящей из сплавленных воедино радости, благожелательности и понимания. Из этого не следует, что в нашем, действительном мире мы должны стараться испытывать такого рода чувства ко всем существам, которых встречаем.
Многие не вызовут у нас чувства радости, потому что отвратительны. Если мы совершим насилие над своей природой, чтобы увидеть в них красоту, это будет просто притуплением нашей чувствительности к естественно прекрасному. Кроме человеческих существ, есть еще мухи, тараканы и вши. Мы должны быть закалены, как Старый Моряк [3] чтобы почувствовать радость от их созерцания. Некоторые святые, правда, называли их «жемчугом божьим», но при этом радовались скорее возможности продемонстрировать собственную святость.
Быть благожелательным к возможно большему числу людей легче, но и благожелательность имеет пределы. Если мужчина хочет жениться, но, обнаружив, что у него есть соперник, добровольно уступает ему место, мы будем очень удивлены: считается, что вопрос о женитьбе – поле честного соперничества. В данном случае, однако, чувства к сопернику не могут быть очень уж благожелательными. Думаю, что во всех описаниях благой жизни здесь, на Земле, мы должны признать в качестве ее подосновы животную витальность и животный инстинкт. Без них жизнь становится серой и неинтересной, и цивилизация должна не подменять их, а скорее служить своего рода дополнением. С этой точки зрения аскетический святой и отрешенный мудрец – уже несовершенные человеческие существа. Когда их немного, они разнообразят общество, но, если бы мир состоял только из них, можно было бы умереть со скуки.
Высказывая эти соображения, мы подчеркиваем значение радости как составной части наилучшей любви. Радость в этом действительном мире неизбежно избирательна, и это спасает от одинаковых чувств ко всем людям. Когда между благожелательностью и радостью возникают конфликты, они должны, как правило, решаться с помощью компромисса, а не через подчинение одного другому. У инстинкта свои права, и, если мы совершаем над ним чрезмерное насилие, он начинает мстить нам исподволь.
Поэтому, стремясь к благой жизни, следует иметь в виду пределы человеческих возможностей. И здесь мы опять наталкиваемся на вопрос о необходимости знания.
Когда я говорю о знании как составной части благой жизни, то имею в виду знание не этическое, а научное – знание конкретных фактов. Не думаю, что такая вещь, как этическое знание, вообще существует. Если мы желаем достигнуть какой-то цели, знание может указать средства ее достижения, и такое знание можно условно назвать этическим. Но я считаю, что мы не способны решить, правильны некоторые действия или неправильны, не обращаясь к их вероятным последствиям. Когда цель поставлена, дело науки – разобраться, какими путями до нее дойти. Все моральные правила проверяются тем, способствуют они достижению желаемых целей или нет. Я говорю именно «желаемых целей», а не «целей, которых мы должны желать». Когда мы «должны» желать, это означает, что от нас чего-то хотят; обычно это люди, наделенные властью, – родители, школьные учителя, полицейские и судьи. Если вы говорите мне «ты должен сделать то-то и то-то», сила ваших слов обусловлена только моим собственным желанием получить от вас одобрение и поощрение и, возможно, избежать наказания. Поскольку всякое поведение возникает из желания, ясно, что этические понятия имеют только то значение, что влияют на желание, причем именно на желание получить одобрение или избежать страха перед неодобрением. Это мощные социальные силы, и мы, естественно, стремимся ими воспользоваться, когда решаем какие-либо социальные задачи. Когда я говорю, что о моральности поведения следует судить по его вероятным последствиям, то имею в виду желательность того, чтобы поведение, которое служит осуществлению желаемых социальных задач, одобрялось, а поведение противоположного характера встречалось неодобрением. Сегодня это не делается – существуют некоторые традиционные правила, согласно которым одобрение и неодобрение санкционируются независимо от учета последствий. Но этой темой мы займемся в следующем разделе.
Поверхностность теоретической этики можно продемонстрировать на самых простых примерах. Предположим, что ваш ребенок болен. Любовь заставляет вас желать, чтобы его вылечили, а наука указывает, как это сделать. Здесь нет какого-то промежуточного звена в виде этической теории, специально доказывающей, что вашего ребенка хорошо было бы вылечить. Ваше действие возникает непосредственно из желания достигнуть цели, а также из знания средств. Это верно в отношении всех действий, хороших и плохих. Цели различаются, и знание может быть более или менее точным. Но нет способа заставить людей делать вещи, которые они не желают делать. Можно изменить их желания какой-то системой поощрений и штрафов, среди которых социальное одобрение и неодобрение играли бы не последнюю роль. Вопрос для моралиста-законодателя, следовательно, в том, как организовать эту систему поощрений и наказаний, чтобы обеспечить максимум желательного для законодательной власти. Если кто-то говорит, что у законодательной власти дурные желания, это означает, что ее желания противоречат желаниям той части общества, к которой этот человек принадлежит. Вне человеческих желаний морального стандарта не существует.