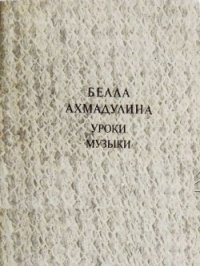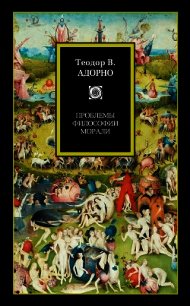Философия новой музыки - Адорно Теодор В. (читать полностью книгу без регистрации .TXT) 📗
Тенденция к диссоциации, проявляющаяся здесь в пределах эстетики, находится в отношении примечательной, объясняемой лишь исходя из единства общества как тотальности, предустановленной гармонии к технологически обусловленной диссоциации, происходящей в фильме, как главной среде современной культурной индустрии. В фильме изображение, слово и музыка отделены друг от друга. Музыка кино подчиняется тем же законам, что и балетная.
Отказ от выражения, наиболее явственный момент деперсонализации у Стравинского, имеет в шизофрении клинический эквивалент, называемый гебефренией, безразличием больного к внешнему миру. Холодность чувств и эмоциональная «поверхностность» в том виде, как они сплошь и рядом наблюдаются у шизофреников, не являются обеднением так называемой душевной жизни самой по себе. Они происходят от недостаточного либидинозного охвата объектного мира, от самого отчуждения, не позволяющего развернуться внутреннему, но именно овнеш-няющему его, делая его застылым и неподвижным. Это-то и превращает музыка Стравинского в свое достоинство: выразительность, всякий раз проистекающая от страстного отношения субъекта к объекту, становится предосудительной, поскольку до контакта дело не доходит вообще. Impassibilite [100] эстетической программы – это хитрость разума, скрывающая гебефрению. Последняя перетолковывается как высокомерие и эстетическая чистота. Она не позволяет импульсам себя беспокоить и ведет себя так, словно действует в царстве идей. Однако же, истина и неистинность в гебефрении взаимно обусловливают друг друга. Ибо отрицание выразительности не является грубым возвращением к злобной нечеловечности – в отличие от того, что кажется наивному гуманизму. С выразительностью случилось то, что она заслужила. В музыке, до сих пор влачившейся позади цивилизации в качестве ее средства, не только приводятся в исполнение цивилизаторские табу на выразительность [101]. В то же время не упускается из виду, что с социальной точки зрения субстрат выражения, индивид, обречен, так как он сам представляет собой основной деструктивный принцип того общества, которое сегодня гибнет от собственной антагонистической сущности. Если в свое время Бузони ставил в упрек экспрессионистской школе Шёнберга «новую» сентиментальность, то здесь нужно видеть не только модернистскую увертку того, кто не поспевал за развитием музыки, – дело в том, что Бузони ощущал, что в выразительности как таковой сохраняется нечто от несправедливости буржуазного индивидуализма; от лжи того, кто говорит, будто он «в себе и для себя», а является всего лишь социальным агентом; от ничтожной жалобы на то, будто индивида настигает принцип самосохранения, представляемый им как раз через инди-видуацию его самого и подвергающийся рефлексии в самовыражении. Критическое отношение к самовыражению стало сегодня общим для всякой ответственной музыки. Школа Шёнберга и Стравинский пришли к этому разными путями, хотя Шёнберг не возвел такого отношения в догму даже после изобретения двенадцатитоновой техники. У Стравинского существуют места, где – при смутном безразличии или беспощадной жесткости – выразительности и ее гибнущему субъекту воздается больше чести, нежели там, где субъект «переливается через край», ибо пока еще не ведает, что он умер: с таким настроем Стравинский, по сути дела, доводит до конца процесс Ницше против Вагнера [102]. В пустых глазах музыки Стравинского порою больше выразительности, чем в самом выражении. Неистинным и реакционным отречение от выразительности будет лишь в тех случаях, когда насилие, постигающее при этом индивида, предстает как непосредственное преодоление индивидуализма, а атомизация и уравниловка – как человеческая общность. Как раз здесь Стравинский на всех уровнях кокетничает собственной ненавистью к выразительности. В конечном счете гебефрения и в музыкальном отношении раскрывается как то, что о ней известно психиатрам. «Безразличие к миру» доходит до лишения «Не-Я» каких бы то ни было аффектов, до нарциссического равнодушия к уделу человеческому, и равнодушие это эстетически прославляется как смысл такового удела.
Гебефреническому равнодушию, безучастному ко всякой выразительности, соответствует пассивность даже там, где музыка Стравинского изображает неутомимую активность. Ритмическое поведение этого композитора чрезвычайно близко к схеме кататонических состояний. У некоторых шизофреников обособление моторного аппарата после распада «Я» приводит к бесконечному повторению жестов или слов; аналогичное известно даже у тех, кого постиг шок. И вот шоковая музыка Стравинского находится под знаком навязчивых повторений, и навязчивость в значительной мере портит повторения. Покорение областей, где еще не ступала нога музыканта, как, например, сферы озверелого тупоумия в «Солдате», происходит благодаря кататоническому элементу (Einschlag). Но последний не просто служит намерениям характеризации; кататоникой заражено само звучание музыки. Школу, родоначальником которой стал Стравинский, называли школой моторики. Концентрация музыки на акцентах и промежутках времени производит иллюзию телесного движения. Но движение это состоит в различающемся повторении одного и того же: одних и тех же мелодических форм, одних и тех же гармоний и даже одних и тех же ритмических образцов. Если двигательная сфера, собственно говоря, никуда не ведет, – а Хиндемит назвал одно из сочинений для хора «Нескончаемое», – то назойливость и притязания на силу свидетельствуют о слабости, а тщетность ударов подпадает под схемы шизофренических жестов. Вся расходуемая энергия ставится на службу слепому и бесцельному послушанию, регулируется слепыми правилами, сосредоточивается на Сизифовых задачах. В лучших инфантилистических пьесах из такого безумного, замкнутого в себе кусания хвоста выводится отчужденное впечатление «попался в лапы – не уйдешь». Подобно тому как кататонические действия отличаются застылостью и одновременно причудливостью, так и в повторениях у Стравинского объединяются конвенционализм и ущербность. Первый из них напоминает маскообразную церемониальную учтивость многих шизофреников. В музыке Стравинского после успешного изгнания души остается пустая оболочка одушевленности. В то же время конвенционализм – из которого впоследствии при небольшом эстетическом сдвиге возник неоклассический идеал – функционирует как «феномен реставрации», как мостик, ведущий назад, в сторону нормального. В «Петрушке» условные воспоминания, как и банальности шарманки и детских стишков, поданы как возбуждающие средства. «Весна священная» в значительной степени все это упразднила: диссонансами и продиктованными стилистикой запретами она разделывается с конвенционализмом, и поэтому ее вполне можно понимать как революционное произведение в смысле враждебности к условностям [103]. Начиная со «Сказки о беглом солдате и черте», все меняется. Униженные и оскорбленные, тривиальность, фигурировавшая в «Петрушке» как анекдотический момент посреди звучания, – вот что превращается в единственный вид материала и в орудие (Agens) шока. Так начинается ренессанс тональности. Мелодические ядра, строящиеся по образцу «Весны священной» и трех квартетных пьес, теперь окончательно обесценились и напоминают низкую вульгарную музыку, марши, идиотическое пиликанье, устаревшие вальсы, а также популярные танцы вроде танго и регтайма [104]. Их тематические образцы прослеживаются не в музыке как роде искусства, а в стандартизованных и деградировавших в рыночных условиях шлягерах; для обнаружения их дребезжащего скелета, правда, всего-навсего требуется, чтобы композитор-виртуоз сделал их в должной степени прозрачными. Благодаря сродству с этой музыкальной сферой инфантилизм и обретает свою «реалистичную», хотя в то же время и негативную опору в том, что происходит и существует, – и распределяет шоки, так наседая на людей с интимно знакомой им, популярной музыкой, что они начинают содрогаться от нее, как от чего-то сугубо опосредованного рынком, «вещного» и совершенно далекого. Условности переходят в свою противоположность: лишь через сплошные условности музыка достигает отчуждения. Они обнаруживают латентный ужас низшей музыки как в дефектных ее интерпретациях, так и в ее скомпонованности из дезорганизованных частиц и извлекают из общей дезорганизации ее организующий принцип. Инфантилизм – это стиль надломленного (des Kaputten). Он звучит подобно тому, как выглядят картинки, наклеенные на почтовые марки, – этот хрупкий, но все же безысходно крепко сцепленный монтаж, угрожающий, словно самые дурные сны. От патогенной, в одно и то же время и образующей замкнутый круг, и дезинтегрированной аранжировки захватывает дух. В ней дает о себе знать с музыкальной точки зрения основополагающее антропологическое содержание эпохи, у истоков которой располагается рассматриваемое произведение: невозможность опыта. Если Беньямин охарактеризовал эпику Кафки как заболевание человеческого здравого смысла, то ущербные условности «Солдата» представляют собой шрамы того, что на всем протяжении буржуазной эпохи называлось здравым смыслом в музыке. В этих шрамах предстает непримиримый разрыв между субъектом и тем, что в музыкальном отношении противостояло ему как объективное, – идиомой. Первый столь же немощен, сколь последняя разрушена. Музыка должна отказаться от превращения в картину правильной жизни, пусть даже трагическую. Вместо этого она воплощает идею, согласно которой жизни больше нет.