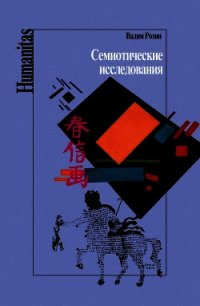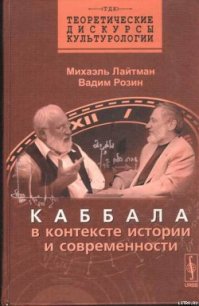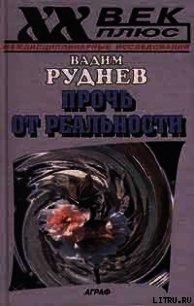Эзотерический мир. Семантика сакрального текста - Розин Вадим Маркович (мир книг .txt) 📗
«Состояние творчества есть состояние наваждения… Что-то, кто-то в тебя вселяется, твоя рука исполнитель, не тебя, а того. Кто — он? То, что через тебя хочет быть… Каким— то вещам России хотелось сказаться, выбрали меня. И убедили, обольстили — чем? — моей собственной силой: только ты! Да, только я. И поддавшись — когда зряче, когда слепо — повиновалась, выискивала ухом какой-то заданный слуховой урок. И не я из ста слов (не рифм) посреди строки выбирала сто первое, а она (вещь), на все сто эпитетов упиравшаяся: меня не так зовут.
Состояние творчества есть состояние сновидения, когда ты вдруг, повинуясь неизвестной необходимости, поджигаешь дом или сталкиваешь с юры приятеля. Твой ли это поступок? Явно твой (спишь, спишь ведь ты!). Твой на полной свободе поступок тебя без — совести, тебя — природы».
Именно в таком состоянии наваждения, сновидения и посещали Даниила Андреева «иные», просветленные, существа (вошедшие после смерти в Синклит России), показывая и диктуя ему устройство и названия нашего мира (Шаданакара) и населяющих его обитателей (иерархий). В этом состоянии («метаисторических озарений», «созерцаний», «осмыслений») Андреев и создает «Розу Мира». Он понимает, ее идеи столь необычны, что будут приняты лишь теми немногими, чей душевный строй созвучен ему, Андрееву; у него нет, как у Штейнера, иллюзий, будто «здоровое, ясное сознание всегда может отличать вещь от ее представления (фантазии)». Андреев пишет:
«… я имел, однако, великое счастье бесед с некоторыми из давно ушедших от нас и ныне пребывающих в Синклите России. К совершенно потрясающим переживаниям их реальной близости я почти не смею прикоснуться пером. Не смею назвать и имена их, но близость каждого из них окрашивалась в неповторимо индивидуальный тон чувств. Встречи случались и днем, и в людной тюремной камере, и мне приходилось ложиться на койку, липом к степе, чтобы скрыть поток слез захватывающего счастья. Близость одного из великих братьев вызывала усиленное биение сердца и трепет торжественного благоговения. Другого все существо мое приветствовало теплой, нежной любовью, как драгоценного друга, видящего насквозь мою душу и любящего ее, и несущего мне прощение и утешение. Приближение третьего вызывало погреби ость склонить перед ним колена, как перед могучим, несравненно выше меня взошедшим, и близость его сопровождалась строгим чувством и необычайной обостренностью внимания. Наконец, приближение четвертого вызывало ощущение ликующей радости — мировой радости — и слезы восторга. Во многом могу усомниться, ко многому во внутренней жизни могу отнестись с подозрением в его подлинности, но не к этим встречам.
Видел ли я их самих во время этих встреч? Нет. Разговаривали ли они со мной? Да. Слышал ли я их слова? И да, и нет. Я слышал, но не физическим слухом, как будто они говорили откуда-то из глубины моего сердца. Многие слова их, особенно новые для меня названия различных слоев Шаданакара и иерархий, я повторял перед ними, стараясь наиболее близко передать их звуками физической речи, и спрашивал, правильно ли? Некоторые из названий и имен приходилось уточнять но нескольку раз; есть и такие, более или менее точного отображения которых в наших звуках найти не удалось. Многие из этих нездешних слов, произнесенных великими братьями, сопровождались явлениями световыми, но то не был физический свет, хотя их и можно сравнить в одних случаях со вспышками молнии, в других — с заревами, в третьих — с лунным сиянием. Иногда это были совсем уже не слова в пашем смысле, а как бы целые аккорды фонетических созвучий и значений. Такие слова перевести на наш язык было нельзя совсем, приходилось брать из всех значений одно, из всех согласованно звучащих слогов — один. Но беседы заключались не в отдельных словах, а в вопросах и ответах, в целых фразах, выражавших весьма сложные идеи. Такие фразы, не расчленяясь на слова, как бы вспыхивали, отпечатываясь на сером листе моего сознания, и озаряли необычным светом то темное для меня и неясное, чего касался мой вопрос. Скорее даже это были не фразы, а чистые мысли, передававшиеся мне непосредственно, помимо слов.
Так, путь метаисторических озарений, созерцаний и осмыслений был дополнен трансфизическими странствиями, встречами и беседами.
Дух нашего века не замедлит с вопросом: «Пусть то, что автор называет опытом, достоверно для пережившего субъекта. Но может ли оно иметь большую объективную значимость, чем «опыт» обитателя лечебницы для душевнобольных? Где гарантии?»
Но странно, разве ко всем явлениям духовной жизни, ко всем явлениям культуры мы подходим с требованием гарантии? А если не ко всем, то почему именно к этим? Ведь мы не требуем от художника или композитора гарантии «достоверности» их музыкальных наитий и живописных видений. Нет гарантий и в передаче религиозного и, в частности, метаисторического опыта. Без всяких гарантий опыту другого поверит тог, чей Душевный строй хотя бы отчасти ему созвучен; не поверит и потребует гарантий, а если получит гарантии, все равно их не примет тот, кому этот строй чужд. На обязательности принятия своих свидетельств настаивает только наука, забывая при этом, как часто её выводы сегодняшнего дня опровергались выводами следующего. Чужды обязательности, внутренне беспредельно свободны другие области человеческого духа: искусство, религия, метаистория».
Мы не случайно упомянули выше имя Штейнера: Андреев, безусловно, был знаком с его учением и в какой-то мере являлся его последователем. Многое указывает на это (термины, образы, идеи), как, впрочем, и на то, что, оттолкнувшись от Штейнера, он создает вполне оригинальное самостоятельное эзотерическое учение.
Мироощущение Даниила Андреева — противоречиво, амбивалентно, но одновременно очень жизненно, симптоматично. Он колеблется между крайним пессимизмом (его мучат апокалипсические и эсхатологические кошмары) и таким же крайним оптимизмом (верой в то, что разум восторжествует и вот-вот настанет светлая эра «Розы Мира»).
«Ничто не поколеблет меня в убеждении, что самые устрашающие опасности, которые грозят человечеству сейчас и будут грозить еще не одно столетие, — это великая самоубийственная война и абсолютная всемирная тирания… Может быть отстранена опасность данной тирании, данной войны, но некоторое время спустя возникнет угроза следующих. Оба эти бедствия были для нас своего рода апокалипсисами — откровениями о могуществе мирового Зла, о его вековечной борьбе с силами Света. Люди других эпох, вероятно, не поняли бы нас; наша тревога показалась бы им преувеличенной, наше мироощущение — болезненным».
Внешним проявлением надвигающейся катастрофы Андреев считает стремление к «всемирному» объединению и господству, внутреннюю пружину процесса он видит в действиях Сатаны, Антихриста, Великого Мучителя.
«Возникают такие государственные громады, на сооружение которых раньше потребовались бы века. Каждое хищно по своей природе, каждое стремится навязать человечеству именно свою власть. Их военная и техническая мощь становится головокружительной. Они уже столько раз ввергали мир в пучину войн и тираний, — где гарантии, что они не ввергнут его еще и еще? И наконец сильнейший победит во всемирном масштабе, хотя бы это стоило превращения трети планеты в лунный ландшафт. Тогда цикл закончится, чтобы уступить место наибольшему из зол: единой диктатуре над уцелевшими двумя третями мира — сперва, быть может, олигархической, а затем, как это обычно случается на втором этане диктатур, — единоличной…
… Если вглядеться глубже, если сказать во всеуслышание то, что говорят обычно лишь в узких кругах людей, живущих интенсивной религиозной жизнью, то обнаружится нечто, не всеми учитываемое. Это возникший еще во времена древнеримской империи мистический ужас перед грядущим объединением мира, это неутолимая тревога за человечество, ибо в едином общечеловеческом государстве предчувствуется западня, откуда единственный выход будет к абсолютному единовластию, к царству «князя мира сего», к последним катаклизмам истории и к ее катастрофическому перерыву»,