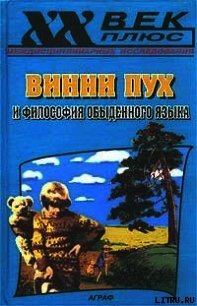Прочь от реальности: Исследования по философии текста - Руднев Вадим (бесплатные полные книги TXT) 📗
Пример этот, кажется, не нуждается в комментарии, но мы еще не закончили с Именем Отца. Вспомним, что русский футуризм проходил под лозунгом свержения Отца русской поэзии – формула «Сбросим Пушкина с корабля современности». Это было осквернением святыни с тем, чтобы потом «ретроактивно» (как бы выразился автор книги [3имовец 1996]) воззвать к ней. Маяковский в поздние годы утверждал, что все время про себя твердит пушкинские строки: «Я утром должен быть уверен, Что с вами днем увижусь я».
Наконец (не пора ли покончить с Именем Отца?) вся «классическая» советская действительность 30-80-х годов проходит в режиме отторжения от реального отца и психотического поклонения Имени Отца, роль которого играют Ленин и Сталин (по-видимому, в этом состоит психотическая специфика любого развитого тоталитаризма):
«Культ Отца Сталина и Сына Ленина в их „единосущности“ („Сталин – это Ленин сегодня“) не мог рикошетом не порождать враждебности рядового советского гражданина к собственному отцу, потенциальному врагу народа. Родной отец воспринимался не как отец, а скорее как отчим. […] Для чего нужен отец, если есть Сталин? – думал советский ребенок. Действительность не давала ему никакого ответа, кроме того, что он был прав и что этот квазиотец действительно низачем не нужен. Что от него один вред. Ведь есть настоящий Отец – Сталин, и этого вполне достаточно для того, чтобы быть счастливым. А если так, то в лагерь ложного отца! Вот одно из объяснений того, почему так легко было расправиться с отцами в 1930-е годы» [Бубенцова 1998].
Советские люди и их вождь постоянно жили в ножницах двух противоположных маний – преследования и величия. С одной стороны, кругом шпионы, враги народа, врачи-убийцы, с другой – советский народ самый счастливый в мире, советская страна самая большая и богатая, а Сталин – самый мудрый и добрый. Это психотическая реальность. На чередование мании преследования и мегаломании как закономерное проявление психоза указывает, например, автор одного из самых известных учебников по психиатрии [Блейлер 1993].
Мы заканчиваем свое исследование. В заключение обобщим все сказанное, построив такую матрицу:
1. Воображаемое подменяет реальное (невротический дискурс).
2. Символическое подменяет реальное (психотический дискурс).
3. Воображаемое подменяет символическое (постневротический дискурс).
4. Символическое подменяет воображаемое (постпсихотический дискурс).
5. Реальное подменяет воображаемое.
6. Реальное подменяет символическое.
Как можно заметить, в этой матрице, как в таблице Менделеева, есть пустые клетки. Давайте попробуем их заполнить. Положение дел, когда реальное подменяет собой воображаемое, обычно называется термином реализм.
Конечно, это мнимое «реальное», это «реальное» нормы литературной традиции, к чему и сводится «реализм» в литературе, к следованию средней литературной «реальности» (подробно о реализме см. раздел «Призрак реализма» настоящей книги). Так или иначе, заполнение этой клетки позволит нам хоть куда-то разместить таких писателей, как Джон Голсуорси, Анри Барбюс, Теодор Драйзер, Юрий Трифонов, Джон Стейнбек и далее по вкусу.
Труднее заполнить последнюю клетку – то положение вещей, при котором реальное подавляет собой символическое. Это должен быть тоже реализм, но реализм не на фоне традиционной литературной нормы, а на фоне непосредственно предшествующей литературы, сформировавшей свой символический дискурс. И этот реализм должен подавлять, опротестовывать этот символический дискурс. Назовем такое положение вещей термином постреализм. Наиболее характерным примером постреализма будет, например, неореализм в итальянском послевоенном кинематографе как реакция на модернистский кинематограф 20-30-х годов. Другим примером постреализма будет гиперреализм в живописи как реакция на ставший уже классическим живописный модернизм и авангард.
Таким образом символическое, воображаемое и реальное (конечно, условное реальное литературной традиции) формируют в культуре XX века свои собственные типы дискурса.
Препарированный дискурс: Морфология безумия
Посвящается Алексею Плуцеру-Сарно
Окончательная победа ирреального символического над реальностью при психозе приводит к созданию того, что можно назвать психотическим миром. Психотический мир может находиться с реальным миром в отношении дополнительной дистрибуции, как это происходит при парафрении – таком виде психоза, при котором человек живет то в реальном мире, то в психотическом, либо в сознании психотика перемежаются разные, часто противоположные психотические миры, как при маниакально-депрессивном психозе (циклофрении), когда в маниакальном состоянии больного охватывают величественные мегаломанические идеи, он хочет реформировать мир, влиять на правительство, претендует на звание императора и т. д.; а для депрессивного состояния, наоборот, характерен бред вины и раскаяния, который принимает такие же грандиозные формы. Либо, как при параноидной шизофрении, происходит полное погружение психотика в бредовый мир, растворение его в нем, тотальная деперсонализация и дереализация.
Так или иначе, правильнее говорить о разных психотических мирах. Некий обобщенный психотический мир – такая же слишком широкая абстракция, как, например, понятие «художественный мир»: художественный мир Венечки Ерофеева строится на фундаментально иных основаниях, чем художественный мир Набокова, а художественный мир Кафки совершенно не похож на художественный мир Введенского, хотя оба они – писатели-психотики. Общим для всех художественных миров является лишь то, что все они используют вербальный язык (если говорить о литературе).
Нам придется пересмотреть примеры, разобранные нами в разделе «Психотический дискурс», с тем чтобы понять, с каким именно психотическим художественным миром мы имеем дело в каждом данном случае. Вспомним эти примеры:
«Глядя мечтательно в ту бескрайность туманов, государственный человек из черного куба кареты вдруг расширился во все стороны и над ней воспарил; и ему захотелось, чтоб вперед пролетела карета, чтоб проспекты летели навстречу – за проспектом проспект, чтобы вся сферическая поверхность планеты оказалась охваченной, как змеиными кольцами, черно-серыми дымовыми кубами; чтобы вся проспектами притиснутая земля в линейном космическом беге пересекла бы необъятность прямолинейным законом; чтобы сеть параллельных проспектов, пересеченная сетью проспектов, в мировые бы ширилась бездны плоскостями квадратов и кубов: по квадрату на обывателя, чтобы…» (курсив мой. – В. Р.).
Выделенные курсивом ключевые слова, кажется, дают основания для того, чтобы определить состояние Аполлона Аполлоновича как состояние шизофренического бреда. Во всяком случае, именно при шизофрении тело может увеличиваться и уменьшаться [Кемпинский 1998: 124]. Но говоря так, мы сталкиваемся с одной, но чрезвычайно фундаментальной трудностью, которую можно выразить в вопросе: о ком и о чем мы, собственно, говорим?
Если мы рассматриваем бред сенатора Аблеухова, то с клинической точки зрения его нельзя рассматривать как шизофренический бред, поскольку при шизофрении весь интеллект меняется (помрачается, как говорят психиатры), переходит в область иного, сенатор же на протяжении всего действия романа проявляет себя как чудаковатый, но вполне вменяемый человек; с другой стороны, как мы вообще можем ставить диагноз несуществующему персонажу? Либо, говоря о сенаторе Аблеухове, надо подразумевать каждый раз его создателя Андрея Белого (но времена таких прямолинейных проекций давно минули), либо в духе нашей философии текста вообще забыть о том, что существуют какие-то реальные люди или вымышленные персонажи, и говорить только о наличности языка. Видимо, наиболее последовательным будет именно это. Мы не можем ставить диагноз тексту – такая процедура была бы бессмысленной. Если мы говорим: «Это шизофренический мир» или «Это гипоманиакальный мир», то прежде всего нам важна не точность нозологических дефиниций, а то, как проявляется специфичность психотического мира в письме, как написан шизофренический дискурс и чем его письмо отличается от письма циклофренического дискурса или паранояльного дискурса. И вот мы говорим, что если Аблеухов чувствует, что он расширился во все стороны, то это элемент шизодискурса.