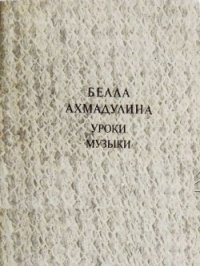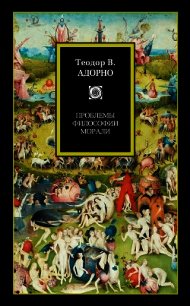Философия новой музыки - Адорно Теодор В. (читать полностью книгу без регистрации .TXT) 📗
То, что укоренилось между крайностями, сегодня фактически нуждается в пояснительной соотнесенности с ними ровно настолько, что безразличие делает любую спекуляцию в отношении этого излишней. История нового музыкального движения уже не терпит «разумного сосуществования противоположностей». Во всей своей широте она со времен героического десятилетия, лет, обрамляющих Первую мировую войну, представляет собой историю упадка, инволюции в сторону традиционного. Отказ модернистской живописи от предметности, характеризующий тот же перелом, что в нашем случае атональность, был предопределен защитой от наступления механизированного художественного товара, прежде всего, фотографии. Не иначе реагировала радикальная в своих истоках музыка и на коммерциализированное вырождение традиционного языка. Она была антитезой распространению культурной индустрии за пределы отведенной для нее сферы. Пожалуй, переход к коммерческому производству музыки как товара массового потребления потребовал более длительного времени, нежели аналогичный процесс в литературе и изобразительном искусстве. Не выражаемая в понятиях и непредметная музыкальная стихия, которая, начиная с Шопенгауэра, была подхвачена у музыки иррационалистической философией, делала этот вид искусства недоступным для ratio продажности. Лишь с наступлением эры звукового кино, радио и песенного оформления рекламных лозунгов музыка во всей своей иррациональности оказалась полностью конфискована деловым рассудком. Однако же, как только индустриальное управление всеми культурными товарами сложилось в некую тотальность, оно приобретает власть и над эстетически нонконформистским искусством. В силу подавляющего превосходства механизмов распределения, работающих в интересах китча и культурных товаров, выставляемых на дешевую распродажу, равно как и в силу выработанной обществом предрасположенности слушателей, радикальная музыка в эпоху позднего индустриализма очутилась в полной изоляции. Это становится морально-социальным предлогом для ложного перемирия у авторов, желающих выжить. Вырисовывается тип композитора, который, бесстрашно притязая на модернизм и серьезность, уподобляет свои сочинения массовой культуре, пользуясь ее рассчитанным слабоумием. Поколение Хиндемита привнесло сюда вдобавок талант и ремесленные навыки. Умеренность его представителей проявилась, прежде всего, в духовной уступчивости, которая не связывала себя окончательными решениями, сочиняла на потребу дня и, выродившись в карикатуру на саму себя в конечном итоге, ликвидировала все музыкально неуютное. Поколение это кончило добропорядочно-рутинным неоакадемизмом. В последнем, однако, невозможно упрекнуть третье поколение. Задрапированное человечностью взаимопонимание со слушателем начинает разлагать технические стандарты, коих достигло прогрессивное сочинительское искусство. То, что имело силу до перелома, – построение музыкальных взаимосвязей средствами тональности – безвозвратно отошло в прошлое. Третье поколение не верит в прилежные трезвучия, которые записывает морщась, да и поношенные средства сами по себе не годятся ни на какое звучание, кроме бессодержательного. Все же это поколение хотело бы уберечься от последовательности нового языка, вознаграждающего предельное напряжение совести художника полным неуспехом на рынке. Но не тут-то было: историческое насилие, «фурия исчезновения» [9], не допускает компромисса с эстетической точки зрения подобно тому, как он более невозможен и с точки зрения политической. В то время как склонные к компромиссам авторы ищут защиты у исконной достоверности и заявляют о своей пресыщенности тем, что язык безрассудства называл экспериментом, они бессознательно вверяют себя тому, что кажется им наихудшим из зол, – анархии. В поисках утраченного времени дорога домой отыскивается нелегко, причем этот процесс теряет всякую осмысленность; произвольное же сохранение традиционного грозит тому, что оно пытается сохранить, и с дурной совестью коснеет против нового. Во всех странах общей чертой эпигонов эпигонствующей вражды является разбавленная смесь квалифицированности и беспомощности. Несправедливо наказанный властями своего отечества как культурбольшевик Шостакович, проворные воспитанники педагогической наместницы Стравинского, козыряющий своим убожеством Бенджамин Бриттен – все они отличаются общим вкусом к безвкусице, наивностью от необразованности, незрелостью, мнящей себя зрелостью, а также недостаточностью технического арсенала. В Германии Имперская палата музыки в конечном итоге оставила после себя лишь груду развалин. Всемирным стилем после Второй мировой войны стал эклектизм сломленного.
Стравинский также занимает крайнее положение в новом музыкальном движении в той мере, в какой капитуляция этого движения проявлялась в тех чертах его собственной музыки, которые – словно под тяжестью собственного веса – становились все отчетливее от произведения к произведению. Тем не менее, сегодня очевиден один аспект, который не может быть поставлен в вину непосредственно Стравинскому и лишь латентно намечен в изменениях его метода: крушение всех критериев оценки хорошей или плохой музыки в том виде, как они утвердились на заре буржуазной эпохи. Впервые дилетантам повсеместно покровительствуют как великим композиторам. Повсюду централизованная в экономическом отношении музыкальная жизнь заставляет общество с собой считаться. Двадцать лет тому назад раздутая слава Элгара казалась локальной, а слава Сибелиуса – исключительным случаем невежества критиков. Явления такого уровня, порой даже более либеральные в употреблении диссонансов, стали сегодня нормой. Начиная с середины девятнадцатого столетия большая музыка вовсе исчезла из обихода. Последствия ее развития вступают в противоречие с манипулируемыми и одновременно самодовольными потребностями буржуазной публики. Узкий круг знатоков оказался подменен теми, кто может оплатить свое кресло и хочет доказать другим собственную культурность. Общественный вкус и качество сочинений взаимно исключили друг друга. Сочинения пробивали себе путь только благодаря стратегии автора, которая, впрочем, едва ли касалась качества самих работ, – или благодаря энтузиазму сведущих музыкантов и критиков. Радикальная современная музыка уже не могла на это рассчитывать. В то время как о качестве всякого передового произведения можно судить в тех же рамках и с той же – а подчас даже с большей – убедительностью, что и в отношении традиционного произведения, из-за того, что переставший господствовать музыкальный язык освобождает композитора от бремени правильности, – мнимые в своем призвании посредники утратили способность к таким суждениям. С тех пор, как композиторский процесс обрел свое единственное мерило в индивидуальном образе каждого сочинения, а не в молчаливо принятых обобщенных требованиях, впредь стало невозможным раз и навсегда «выучить», что является хорошей или плохой музыкой. Желающий судить должен смотреть в упор на неизменные проблемы и антагонизмы индивидуальной образной структуры, а этого не в состоянии преподать никакая общая теория, никакая история музыки. Едва ли кто-либо еще способен к этому в большей мере, чем передовой композитор, которому дискурсивные раздумья, однако, зачастую претят. Он больше не может полагаться на посредников между собой и публикой. Критики судят о музыке буквально согласно высокоинтеллектуальному характеру «Песни» Малера: они выносят оценку в соответствии с тем, что они понимают и чего не понимают; исполнители же, и прежде всего дирижеры, сплошь и рядом руководствуются моментами крайне поверхностной эффектности и доступности исполняемого. При этом мнение, будто Бетховен понятен, а Шёнберг непонятен, объективно представляет собой надувательство. В то время как внешспособность притупляется вездесущими шлягерами так, что концентрация ответственного слушания становится невозможной, а память слуха – засоренной следами безобразия; дело еще и в том, что сама священная традиционная музыка уподобляется характеру своего исполнения, приспосабливаясь для наслаждения слушателя коммерческой массовой продукции, – и нельзя сказать, что это не отражается на ее субстанции. В отношении музыки справедливы слова Клемента Гринберга, говорившего о расколе всего искусства на китч и авангард, причем китч, выражающий диктат наживы над культурой, давно подчинил себе особую сферу, отведенную культуре обществом. Поэтому размышления, предметом которых становится развертывание истины в эстетической объективности, относятся единственно к авангарду, исключенному из официальной культуры. Философия музыки сегодня возможна лишь в качестве философии новой музыки. Отторжение новой культуры со стороны старой является попросту охранительным, но оно лишь потакает тому варварству, по поводу которого негодует. Пожалуй, так недолго счесть образованных слушателей наихудшими, поскольку это они реагируют на Шёнберга мгновенным «Не понимаю», выражением, в непритязательности которого ярость рационализируется как осведомленность.