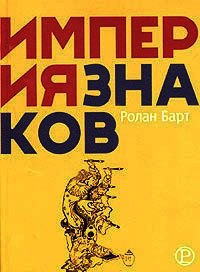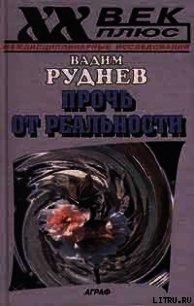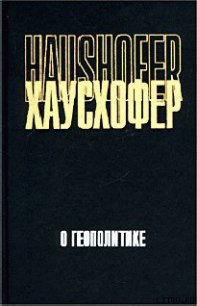Семиотика, Поэтика (Избранные работы) - Барт Ролан (бесплатные версии книг .txt) 📗
Но хотя литература в силу своей техники (в которой и состоит ее существо) всегда была системой полагаемого и ускользающего смысла, хотя такова ее антропологическая природа - тем не менее с известной (уже не исторической) точки зрения оппозиция литератур
285
с завершенным и незавершенным смыслом все же обретает некоторую реальность; это точка зрения нормативная. Ныне мы, по-видимому, отдаем предпочтение (отчасти эстетическое, отчасти этическое) системам откровенно уклончивым, поскольку литературные искания постоянно обращаются к крайним пределам смысла. Откровенное признание статуса литературы в итоге становится критерием ценности: "плохая" литература (литература "со спокойной совестью") обходится завершенными смыслами, "хорошая" литература, напротив, ведет с искушающим ее смыслом открытую борьбу.
V. В современной критике, по-видимому, существуют две разнонаправленные тенденции. С одной стороны - "критики значения" (Ришар, Пуле, Старобинский, Морон, Гольдман), которые, при всех различиях между собой, стремятся "придать смысл" произведению, и даже придавать ему все новые и новые смыслы; с другой стороны - Бланшо, стремящийся вырвать произведение из мира смысла или, по крайней мере, изучать его вне всяких приемов смыслопроизводства, непосредственно в его безмолвии. Сами вы, вероятно, связаны сразу с обеими тенденциями. Если это так, то каким вам видится возможное примирение или преодоление противоречия между ними? Должна ли критика добиваться, чтобы произведение заговорило, или же служить усилителем его безмолвия, либо решать обе задачи, но тогда - в каком соотношении?
Критика значения, о которой вы говорите, сама, на мой взгляд, может быть разделена на две различные группы. С одной стороны, это критика, придающая означаемому литературного произведения высокую степень завершенности и жесткость контуров - одним словом, называющая его. В случае Гольдмана таким открыто названным означаемым является реальное политическое положение той или иной социальной группы (для творчества Расина и Паскаля это правое крыло янсенистской буржуазии), в случае Морона - жизненная ситуация, пережитая писателем в детстве (Расин - сирота, выращенный подменным отцом, Пор-Роялем). При подобном подчеркивании - то есть назывании
286
означаемого знаковые свойства произведения рассматриваются гораздо менее полно, чем можно было бы предположить; но парадокс здесь лишь кажущийся - достаточно вспомнить, что сила знака (вернее, знаковой системы) зависит не от его полноты (наличия означающего и означаемого в завершенном виде), не от его, так сказать, корней, но прежде всего от тех связей, которые знак поддерживает со своими соседями (реальными или потенциальными), - от того, что можно назвать его окружением. Другими словами, основу подлинной критики значения составляет прежде всего внимание к организации означающих, а не выявление означаемого и его связи с означающим. Этим и объясняется, что критике Гольдмана и Морона, имеющей дело с сильным означаемым, постоянно грозят два призрака, которые обычно столь враждебны значению. В случае Гольдмана означающее (то есть произведение или, точнее, справедливо вводимая Гольдманом посредующая инстанция - видение мира) все время рискует предстать продуктом социальной обстановки, так что значением, в сущности, лишь маскируется старая детерминистская схема; в случае же Морона означающее трудно отличимо от любезного традиционной психологии выражения (оттого-то, видимо, Сорбонна так легко и переварила литературный психоанализ в виде диссертации Морона).
С другой стороны, но в рамках той же критики значения, выделяется группа критиков, которых можно в рабочем порядке обозначить как тематических (Пуле, Старобинский, Ришар). Действительно, определяющим для такой критики может считаться повышенное внимание к принятому в произведении "семантическому членению" и к его организации в виде обширных знаковых форм. Такая критика, конечно, признает за произведением неявное означаемое (это, в общем и целом, экзистенциальный проект автора), и подобно тому как в первой группе знаку грозило совпадение с продуктом или выражением, так здесь он с трудом отличим от признака (indice). Однако, во-первых, означаемое здесь не называется, критик оставляет его рассеянным в изучаемых им формах, оно проявляется только в членении этих форм и не существует вне
287
произведения, так что данная критика остается критикой имманентной (оттого, должно быть, она и не очень по нутру Сорбонне); во-вторых, такая критика, направляя все свои усилия (всю свою деятельность) на изучение, так сказать, сетевой организации произведения, является по главной своей сути критикой означающего, а не означаемого.
Как мы видим, даже при последовательном рассмотрении критики значения, где, казалось бы, вся суть в означаемом, это означаемое все более и более исчезает; зато сохраняется во всем многообразии означающее, опираясь в одном случае на "реальность" означаемого, а в другом - на присущее произведению "семантическое членение", осуществляющееся уже по структурным, а не эстетическим законам. Поэтому всей такого рода критике можно противопоставить (как это и делаете вы) дискурс Бланшо - скорее язык, нежели метаязык, чем и обусловлено неопределенное место Бланшо между критикой и литературой. Однако, не признавая в произведении никакого "затвердевания" смысла, Бланшо, по сути, обрисовывает контуры смысловых пустот, и уже сама трудность такой деятельности сближает ее с критикой значения - возможно, даже будет сближать все больше и больше. Не следует забывать, что к "несмыслу" (non-sens) можно только стремиться, для нашего ума это нечто вроде философского камня, потерянного или недостижимого рая. Вырабатывать смысл - дело очень легкое, им с утра до вечера занята массовая культура; приостанавливать смысл - уже бесконечно сложнее, это поистине "искусство"; "уничтожать" же смысл - затея безнадежная, ибо добиться этого невозможно. Почему? Потому что все "вне-смысленное" (hors-sens) непременно поглощается (в произведении можно разве что оттянуть этот момент) "несмыслом", имеющим совершенно определенный смысл (известный как абсурд); нет ничего более "значащего", чем попытки, от Камю до Ионеско, поставить смысл под вопрос или же разрушить его. Собственно говоря, у смысла может быть только противоположный смысл, то есть не отсутствие смысла, а именно обратный смысл. Таким образом, "не-смысл" всегда нечто буквально "противное смыслу", "противосмысл" (contre-sens) "нулевой
288
степени" смысла не бывает - разве только в чаяниях автора, то есть в качестве ненадежной отсроченности смысла. Творчество Бланшо (будь то критика или "роман") представляет собой поэтому весьма своеобразную (хотя ей, пожалуй, имеются соответствия в живописи и музыке) эпопею смысла наподобие истории Адама, то есть первого человека, жившего do смысла.
VI. В книге "О Расине" вы отмечаете, что Расин открыт любому из языков современной критики; как можно понять, вы бы хотели, чтобы он открывался и для всех других языков. В то же время сами вы как будто без колебаний избрали применительно к Расину язык психоаналитической критики, а применительно к Мишле - язык субстанциального психоанализа. Получается, что для вас каждый писатель автоматически требует себе определенный язык описания. Проявляется ли здесь ваше личное отношение к материалу (то есть в принципе вам представляется столь же правомерным и какой-то другой подход), или же вы считаете, что есть и объективное соответствие между тем или иным писателем и тем или иным критическим языком?
Стоит ли отрицать, что существует некоторое личное соотношение между критиком (и даже между тем или иным моментом в его жизни) и его языком? Но критики значения как раз и предлагают не поддаваться этому воздействию; мы выбираем язык не потому, что он кажется нам необходимым, - мы выбираем себе язык и тем самым делаем его необходимым. Таким образом, критик неограниченно свободен по отношению к своему объекту; остается только выяснить, что мир позволит нам сделать с этой свободой.