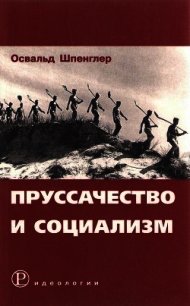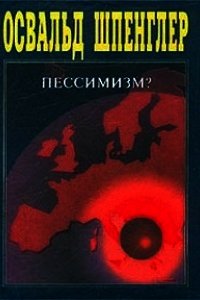Годы решений - Шпенглер Освальд (читать полностью книгу без регистрации .txt) 📗
Эта война показала конец всех традиций большой дипломатии, последним представителем которой был Бисмарк. Ни один из жалких государственных деятелей больше не понимал задач своего правления и исторического положения своей страны. Многие уже давно признались, насколько растерянными и беспомощными они оказались в вихре событий. Так глупо и бесславно завершилось существование «Европы».
Кто здесь победил, а кто проиграл? В 1918 году многие полагали, что это известно, и, по крайней мере, Франция судорожно продолжает придерживаться своей версии, потому что духовно не может поступиться последней идеей своего политического существования как великой державы — реваншем. Но Англия? Или, тем более, Россия? Не повторяется ли здесь во всемирно-историческом масштабе история из новеллы Клейста «Поединок»? Или была побеждена «Европа»? Или силы традиции? В действительности возникла новая форма мира как предпосылка для будущих грандиозных решений, которые ждут своего часа. Россия вновь духовно завоевана Азией, а что касается и английской Empire, то не ясно, по-прежнему ли ее центр тяжести находится в Европе. Остаток «Европы» находится между Азией и Америкой — между Россией и Японией на Востоке, Северной Америкой и английскими доминионами на Западе и, в сущности, состоит сегодня только из Германии, вновь обретающей свое старое значение пограничной с «Азией» страны; из Италии, которая представляет силу, пока жив Муссолини и которая, возможно, приобретет в Средиземном море более прочную базу для превращения в подлинно мировую державу; и из Франции, вновь рассматривающей себя хозяйкой Европы, к политическим учреждениям которой относятся женевская Лига Наций и группа государств Юго-Востока.
Но все это, скорее всего, явления преходящие. Изменение политических форм мира происходит быстро, и никто не может себе представить, как будет выглядеть политическая карта Азии, Африки и даже Америки через несколько десятилетий.
Глава 5
Однако то, что Меттерних понимал под хаосом, от которого он пытался как можно дольше уберечь Европу своей самоотверженной, нетворческой деятельностью, направленной на сохранение существующего порядка, было не столько разрушением ее государственной системы и равновесия сил, сколько сопутствующим разрушением самого государственного суверенитета отдельных стран, который с тех пор исчез для нас как понятие. То, что сегодня именуется «порядком» и закреплено в «либеральных» конституциях, есть не что иное, как вошедшая в привычку анархия. Мы называем это демократией, парламентаризмом, самоуправлением народа, на самом же деле речь идет о простом отсутствии сознающего свою ответственность авторитета правительства и, тем самым, отсутствии подлинного государства.
Человеческая история в век высоких культур есть история политических держав. Формой этой истории является война. Но и мир также относится сюда. Он есть продолжение войны другими средствами: попытка побежденного избавиться от последствий войны в форме договоров и стремление победителя эти последствия сохранить. Государство — это «пребывание в форме» [70] для ведения настоящих и возможных войн ради народного единства, им образованного и представленного. Если эта форма сильна, то уже как таковая имеет ценность победоносной войны, выигранной без оружия, одним весом имеющихся в ее распоряжении сил. Если же она слаба, то постоянных поражений в отношениях с другими державами не избежать. Государства представляют собой чисто политические единства, единства действующих вовне сил. Они не привязаны к единствам рас, языков или религий, они стоят выше этого. Если же они совпадают с подобными единствами или пересекаются с ними, то в таком случае их сила вследствие внутреннего противоречия будет, как правило, меньше, но никогда не больше. Внутренняя политика предназначена только для того, чтобы укреплять силу и единство внешней политики. Если же она начинает преследовать другие, собственные цели, начинается разложение, утрата государством формы.
«Пребывание в форме» для державы как государства среди государств означает, прежде всего, силу и единство руководства, управления, авторитета, без которых действительно невозможно государство. Государство и управление — это одна и та же форма, мыслимая в качестве существования или в качестве деятельности. Государства XVIII века принимали форму, строго определенную династической, придворной и общественной традицией, и в значительной мере совпадавшую с ней. Церемонии, такт избранного общества, благородные манеры поведения и переговоров составляли лишь ее внешнюю сторону. Англия также «пребывала в форме»: островное положение заменяло существенные признаки государства, а парламент был насквозь аристократической, очень действенной формой решения дел, основанной на древнем обычае. Франция окунулась в революцию не потому, что «народ» восстал против абсолютизма, которого здесь больше не было, не из-за нищеты и государственных долгов, в иных странах более значительных, а вследствие падения авторитета. Все революции происходят из-за распада государственности и Восстание переулка вообще не может оказать такого воздействия. Оно может быть только следствием. Современная публика есть не что иное, как руины монархии, которая отреклась от самой себя.
В XIX веке государства переходят от формы династического к форме национального государства. Но что это значит? Нации, то есть культурные народы, конечно же, существовали и давно. В большей своей части они совпадали с владениями крупных династий. Эти нации были идеями, в том смысле, в котором Гете говорит об идее собственного бытия: внутренняя форма значимой жизни, которая неосознанно и незаметно реализуется в каждом поступке, в каждом слове. Однако «la nation» в смысле 1789 года была националистическим и романтическим идеалом, желаемой картиной явно политической, чтобы не сказать социальной, направленности. В это пошлое время уже никто не умеет отличить одно от другого. Идеал есть результат мышления, понятие или предложение, которое должно быть сформулировано, чтобы «иметь» идеал. И последствии оно быстро становится выражением, которое используют не задумываясь. Идеи же, напротив, бессловесны. Они редко или вообще не осознаются своими носителями и не могут формулироваться другими при помощи слов. Они должны наполняться картиной происходящего, описываться в своем осуществлении. Им невозможно дать определения. Они не имеют ничего общего с желаниями или целями. Они являются смутным стремлением, которое обретает в отдельной жизни гештальт и, подобно судьбе, превосходит ее и увлекает в каком-то одном направлении: идея Рима, идея крестовых походов, фаустовская идея [71] стремления к бесконечному.
Настоящие нации являются идеями, даже сегодня. Но национализм, начиная с 1789 года, характеризуется тем, что путает родной язык с письменным языком больших городов, на котором каждый учится читать и писать, то есть языком газет и листовок, посредством которых каждому объясняются «права» нации и необходимость ее освобождения от непонятно чего. Настоящие нации, как и любой живой организм, имеют сложную внутреннюю структуру; уже одним своим существованием они представляют собой своего рода порядок. Но политический рационализм понимает «нацию» как свободу от, как борьбу против любого порядка. Нация для него бесформенная масса, без структуры, руководства и целей. Это он называет суверенитетом народа. Что примечательно, он предает забвению зрелое мышление и чувства крестьянства; он презирает нравы и обычаи подлинной народной жизни, к которым, в первую очередь, относится благоговение перед авторитетом. Благоговение ему неведомо. Он знает только принципы, возникшие из теорий. Прежде всего, плебейский принцип равенства, что означает замену ненавистного качества на количество, замену завидного дарования на число. Современный национализм подменяет народ массой. Он насквозь революционный и городской.
Наиболее роковым является идеал правления народа над «самим собой». Но народ не может управлять собой как не может армия сама командовать собой. Им нужно руководить, и он желает этого, пока имеет здоровые инстинкты. Но здесь подразумевается совсем иное: понятие народного представительства сразу же играет первую роль в каждом подобном движении. Появляются люди, которые называют себя «представителями» народа и предлагают себя в качестве таковых. Они вовсе не собираются «служить народу», они хотят использовать народ в своих более или менее грязных целях, самой безобидной из которых является удовлетворение тщеславия. Они борются с силой традиции, чтобы занять ее место. Они борются с государственным порядком, поскольку он препятствует методам их деятельности. Они борются с любым видом авторитета, потому что не хотят быть ответственными ни перед кем и сами избегают всякой ответственности. Ни одна конституция не предусматривает инстанции, перед которой должны были бы отчитываться партии. Прежде всего, они борются с постепенно вызревшей и развитой культурной формой государства, потому что они не имеют ее в себе, подобно хорошему обществу, «society» XVIII века, и поэтому считают ее принуждением, каковым она для культурного человека не является. Так возникает «демократия» этого столетия, не форма, а бесформенность во всех смыслах как принцип, парламентаризм как анархия в рамках конституции, республика как отрицание всякого авторитета.