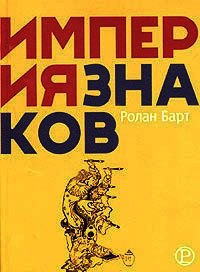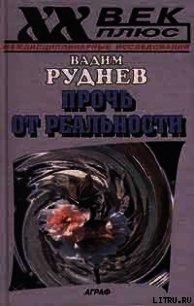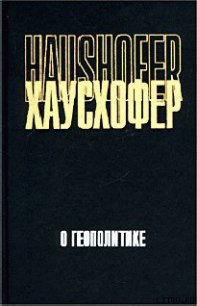Семиотика, Поэтика (Избранные работы) - Барт Ролан (бесплатные версии книг .txt) 📗
49 Simon Р. Н., "Monde", 1 дек. 1965, Piatier J., "Monde", 23 OKT. 1965.
338
имеет гораздо большее отношение к тому Мраку Чернильницы, о котором говорил Малларме, чем к современным стилизациям под Вольтера или под Низара. Ясность - это не атрибут письма, это само письмо, начиная с того момента, когда оно становится письмом, это блаженство письма, все то желание, которое таится в письме. Разумеется, знание границ той аудитории, в которой писатель будет принят, - это очень важная для него проблема; по крайней мере, он свободен в выборе этих границ, и если ему случается согласиться с их узостью, то именно потому, что писать отнюдь не значит вступать в легкий контакт с неким гипотетическим средним читателем, напротив - это значит вступать в трудный контакт с нашим собственным языком: по отношению к собственному слову, которое и есть его истина, у писателя гораздо больше обязательств, нежели по отношению к критику из "Насьон Франсэз" или из "Монд". "Жаргон" - это вовсе не способ покрасоваться перед публикой, на что столь недоброжелательно, хотя и тщетно нам намекают 50; "жаргон" - это воплощенное воображение (они в равной степени ошеломляют), он сродни метафорическому языку, в котором когда-нибудь ощутит потребность и собственно интеллектуальный дискурс.
Я защищаю здесь право на язык, а вовсе не на свой индивидуальный "жаргон". Да и могу ли я рассуждать о нем как о некоем объекте? Глубокое беспокойство (связанное с ощущением личностной самотождественности) вызывает сама мысль, что ты можешь владеть словом как вещью и что тебе необходимо защищать эту вещь, словно какое-то добро, обладающее не зависимой от тебя сущностью. Да неужели же я существую до своего языка? И что же в таком случае представляет собой это я, будто бы владеющее языком, между тем как на самом деле именно язык вызывает я к бытию? Могу ли я пережить собственный язык как простой атрибут своей личности? Можно ли поверить, что я говорю потому, что я существую? Подобные иллюзии, на худой конец, возможны за пределами литературы; однако литература как раз и не допускает их.
50 Picard R., op. cit., p. 52.
339
Запрет, налагаемый вами на все чужие языки, - это всего лишь способ самим себя исключить из литературы: отныне более невозможно, не должно быть возможно, как это было во времена Сен-Марка Жирардена 51, служить надсмотрщиком над искусством и вместе с тем претендовать на то, чтобы сказать о нем нечто.
Асимболия
Вот каким предстает в 1965 году адепт критического правдоподобия: о книгах надлежит говорить "объективно", "со вкусом" и "ясно". Предписания эти родились не сегодня: последние два пришли к нам из классического века, а первое - из эпохи позитивизма. Так возникла совокупность неких расплывчатых норм - наполовину эстетических (связанных с классической категорией Прекрасного), а наполовину рациональных (связанных со "здравым смыслом"); тем самым был построен удобный мост между искусством и наукой, позволяющий не находиться полностью ни там, ни здесь.
Указанная двойственность находит выражение в последней теореме, которая, похоже, целиком владеет великой заповедальной мыслью старой критики, поскольку она формулирует ее с неизменным благоговением; это представление о необходимости уважать "специфику" литературы 52. Названная теорема, подобно небольшой военной машине, направлена против новой критики, обвиняемой в равнодушии ко всему "литературному в литературе", в разрушении "литературы как особой реальности" 53; эта теорема, которую постоянно повторяют, но никогда не доказывают, имеет очевидное, но неоспоримое преимущество, свойственное всякой тавтологии: литература - это литература; тем самым можно одновременно и вознегодовать на новую критику, бесчувственную ко всему, что, по решению адепта правдоподобия, есть в литературе Искусного,
51 Который предостерегал молодежь против "моральных иллюзий и путаницы", повсюду распространяемых "современными книгами".
52 Picard R., op. cit., p. 117.
53 Ibid., p. 104, 122.
340
Задушевного, Прекрасного и Человечного 54, и притворно призвать критику к обновлению науки, которая займется-де, наконец, литературным объектом "в себе" и отныне уже ничем не будет обязана никаким другим наукам - ни историческим, ни антропологическим; между тем от подобного "обновления" попахивает довольно-таки старой плесенью: еще Брюнетьер примерно в тех же выражениях упрекал Тэна за излишнее пренебрежение к "самой сути литературы, иными словами, к специфическим законам жанра".
Попытка установить структуру литературных произведений - важная задача, и многие исследователи посвятили ей себя, правда, используя при этом методы, о которых старая критика и не заикается; и это естественно, поскольку, притязая на изучение структур, она в то же время не хочет быть "структуралистской" (слово, вызывающее раздражение и подлежащее "изгнанию" из французского языка). Разумеется, критическое прочтение произведения должно осуществляться на уровне самого произведения; однако при этом, с одной стороны, остается неясным, каким образом, установив известные формы, мы сможем избежать последующей встречи с содержанием, коренящимся либо в истории, либо в человеческой психее, короче, в тех вне-литературных факторах, от которых старая критика хочет откреститься любой ценой; с другой стороны, цена структурного анализа произведения намного выше, чем можно подумать. Ведь если оставить в стороне изящную болтовню по поводу замысла произведения, такой анализ можно осуществить, лишь исходя из определенных логических моделей: в самом деле, о специфике литературы можно говорить лишь после того, как последняя будет включена в некую общую теорию знаковых систем; чтобы получить право на защиту имманентного прочтения произведения, нужно предварительно знать, что такое логика, история, психоанализ; короче, чтобы вернуть произведение литературе, следует сначала выйти за ее пределы и обратиться к культурной антропологии. Сомнительно, чтобы старая критика была к
"...Абстракции этой новой критики, бесчеловечной и антилитературной" ("Revue parlementaire", 15 ноября 1965).
341
этому готова. Похоже, что она стремится к защите сугубо эстетической специфики произведения; она хочет отстоять в нем некую абсолютную ценность, не запятнанную множеством презренных "внелитературных факторов", каковыми являются история или глубины нашей психеи: старая критика жаждет отнюдь не организованного, но чистого произведения, свободного как от компромисса с внешним миром, так и от неравного брака с внутренними влечениями человека. Модель сего целомудренного структурализма имеет просто-напросто этическую природу.
"О богах, - советовал Деметрий Фалерский, - говори, что они боги". Окончательное требование адепта критического правдоподобия носит тот же характер: о литературе говори, что она литература. Эта тавтология отнюдь не безобидна: сначала делают вид, будто о литературе можно что-то говорить, то есть превращать ее в объект высказывания, но затем это высказывание тут же и пресекают, ибо оказывается, что сказать-то об этом объекте совершенно нечего помимо того, что он является самим собой. И действительно, адепт критического правдоподобия в конце концов приходит либо к молчанию, либо к его субституту - празднословию: изящная болтовня - еще в 1921 году говорил Роман Якобсон об истории литературы. Будучи парализован множеством запретов, которых требует "уважение" к произведению (предполагающее сугубо буквальное понимание текста), адепт критического правдоподобия с трудом может даже приоткрыть рот: сквозь все его многочисленные табу способен просочиться лишь тоненький словесный ручеек, позволяющий ему заявить о правах социальных институтов в отношении мертвых писателей. Что же до возможности надстроить свое собственное слово над словом произведения, то адепт правдоподобия лишает себя необходимых для этого средств, поскольку не желает идти на соответствующий риск.
В конце концов замолчать - значит дать понять, что намереваешься покинуть собеседника. Отметим же на прощание неудачу, которую потерпела старая критика. Коль скоро ее объектом является литература, она могла бы заняться выяснением условий, делающих возможным