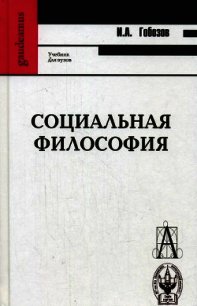Философия истории - Карсавин Лев Платонович (мир книг txt) 📗
Качествование не предопределяет своих индивидуализаций и не является фактором по отношению к ним именно потому, что вне их оно не существует. Равным образом и личность не определяет качествования, как некоторая высшая ему сила. Принято говорить о решающем в истории новой философии значении Канта. Здесь перед нами, по-видимому, один из самых ярких примеров влияния личности на развитие философского процесса. Кант представляется мощным, определяющим развитие новой философии фактором. Без него – это кажется несомненным – она пошла бы иным путем.
Так ли? Историки философии прослеживают влияние Канта, из которого исходят великие идеалистические системы начала XIX в., к которому возвращаются со времен Ф. А. Ланге, которому придают иную форму сильные философские течения современности, с которым борются, т. е. отрицательно им себя определяют, другие течения XIX и XX в. Но что такое, по существу своему кантианство после Канта, от системы Фихте до системы Когена? – Каждый из примыкающих так или иначе к Канту философов исходит из некоторых установленных Кантом положений. Но он не просто принимает их на веру (впрочем, и это случается очень часто), а усматривает их истинность, т. е. успешно или неудачно – восходит к той же объективной Истине, которую созерцал Кант. Конечно, Кант ему помог, обратив его глаза к объективной Истине. Убежденный холостяк оказался искусным акушером. Но никто не в состоянии доказать, что, не будь Канта, наш философ не обратился бы за помощью к другой повивальной бабке. Еще менее вероятно, что, не найдя ее, он воздержался бы от акта рождения. Невозможно далее, доказать, что рожденный без помощи Канта ребенок обладал бы менее деформированной головкой, хотя и вероятно, что он во многом отличался бы от действительного. Несомненно, без влияния Канта, Фихте, Шеллинг и Гегель выдумали бы свою терминологию или даже свои, нарочито различные. И кто знает, было ли бы это хуже. Вероятно, впрочем, что место Канта попытался бы занять Гегель. Как ни велик философский гений Канта, он не с неба свалился, а рожден во чреве философии XVIII в., воспитан на Вольфе, Лейбнице, Юме, определен западно-европейскою религиозною культурой. Только на почве католически-протестантской религиозности могла возникнуть основная идея Канта – идея вещи в себе. И совсем не в том гениальность Канта, что он выдумал нечто принципиально новое.
Историки философии с чрезвычайным усердием изучают генезис критической философии. И в этом изучении вскрывается весьма любопытная вещь. Кант в основных своих идеях оказывается необходимым диалектическим «следствием» философии XVIII в. Всякий серьезно философствовавший в эту эпоху бродил вокруг основного замысла критической философии. В среде тогдашних философов, актуальных и потенциальных, было много возможных Кантов. Рано или поздно, но в эти именно годы должен был появиться на свет Божий Кант. Опасность для историка лежит не в том, что он не покажет необходимости Кантовой философии как раз на переломе XVIII и XIX веков, а в том, что он недооценит в ней индивидуального, специфически-Кантовского, и упростит и отвлеченно поймет процесс развития. Весь Кант подвергается опасности утонуть в потоке философской мысли, не оставив на поверхности ничего, кроме имени, которое философским значением не обладает.
Мы не в состоянии, по-видимому, определить: чем же, собственно, повлияла личность Канта на развитие философии, в каком отношении является она «фактором». Нам скажут: хотя бы в том, что Кант индивидуализировал потенциальную систему эпохи и тем сделал ее актуальною. Но где же начинается индивидуализация? Как отделить индивидуальное от общего? А возможно, что дело обстоит еще хуже. – Если мы примем во внимание не только философские идеи эпохи, но и характер ее философствования, едва ли покажется случайным тот факт, что философская мысль выражается почти исключительно в форме обширных и ярких индивидуальных систем и что за системою Канта сейчас же следуют не менее значительные системы Фихте, Шеллинга, Гегеля. Не случайно, конечно, и то, что вне их и после них средняя философская мысль ограничивает себя не раскрытием с других сторон той же основной интуиции, а усвоением сказанного ими. Сопоставляя философское развитие от Бруно до Гегеля и Шеллинга с философским развитием второй половины XIX и начала ХХ в., можно выдвинуть следующий тезис, который будет лишь применением к философскому развитию более общего тезиса, характеризующего западно-европейский культурный процесс в целом. – Состояние философской мысли в конце XVIII и начале XIX в. таково, что оно могло и должно было выразиться в одной объемлющей индивидуальной системе, которая бы послужила началом для нескольких других. Названная эпоха еще универсально-индивидуалистична, т. е. индивидуалистична с направленностью индивидуальности на универсальное. Философствующая личность еще вмещает и объемлет целое мира, и потому, что целое это недостаточно дифференцировано, и потому что личность направлена на него и ограничивает его рационально. Философствование всегда индивидуально, но в XVIII–XIX в. оно естественно выражается в объемлющей целое мира системе, тогда как позже, в XIX–XX в., уже утрачивает интерес к целому и бессильно его многообразие объять. В природе философствования XVIII–XIX в. заключен принцип выражения его в универсально-индивидуальной системе. Но это философствование ограничено в своей основной интуиции, т. е. во всех ее индивидуализациях, без которых оно эмпирически не существует. Таким образом, система Канта (как и всякая другая) не следствие философского развития и не фактор его. Она его типическое выражение, его индивидуализация. Проблема взаимовлияния, термины «причина», «фактор», «случайность» возникают лишь тогда, когда мы сопоставляем философский процесс вне Канта с Кантом вне философского процесса, т. е. когда теряем понимание того, что такое исторический момент, и находимся в царстве фикций.
В своем труде «Европа и французская революция» А. Сорель задает себе (по существу глубоко неисторический, исторически-наивный) вопрос, какою бы была политика Франции, если бы место Наполеона занял кто-нибудь другой, например, Ош (Hoche). Сорель приходит к любопытному выводу, что эта политика существенно не изменилась бы. Подобный же ответ возможен и во всех других аналогичных случаях. Если нам укажут на личную политику государя, Цезаря, Вильгельма II или Николая I, мы после ближайшего ознакомления с фактами, вынуждены будем признать, что в данных условиях личность, воспитанная в такой-то среде, выражающая волю таких-то групп и такого-то народа, иначе действовать не могла. Мы признаем также, что в эпоху Цезаря не случайностью, а необходимостью был захват власти гениальным и честолюбивым полководцем (недаром наряду с Цезарем стоят другие кандидаты в тираны), и что во Франции конца XVIII в. или в России начала XX властью могли обладать лишь слабые и в слабости своей типичные для своего времени люди. Раз став на почву причинного объяснения, мы уже не вправе отделить политического деятеля от его среды и не принимать во внимание воздействующих на него людей и групп и руководящих им мотивов.
Вопрос о роли личности в истории в тех категориях, в каких он ставится, неразрешим, чем и объясняется бесплодность вызываемых им споров. Он неправильно поставлен, предполагает атомизированность исторической действительности и применимость к ней измерения и эксперимента. Личность характерна, показательна, типична для выражаемой ею эпохи, народа, групп. Для той либо иной эпохи характерно выражение ее в ярких или «безличных» индивидуальностях, «рассеянность» ее актуализации или концентрированность в личностях. Неизбежно «обезличивание» культуры с переходом ее от органического периода развития к систематическому (§§ 37, 26). Но говорить о роли личности в смысле причинного ее влияния на другие или на исторический процесс и неправильно и, как показывает развитие историографии, бесполезно.
Во всех объяснениях воздействия личности на другие личности и на исторический процесс никогда не устанавливают точной границы между личностью и тем, с чем она взаимодействует. Содержание личности в сознании исследователя постоянно меняется. Одна и та же идея, один и тот же мотив относятся то на долю личности, то на долю воздействующих на нее личностей и групп, т. е. на долю высших личностей. И дело тут не в небрежности или невнимании исследователя, а в том, что содержание личности неопределимо, ибо личность – индивидуализация всеединой высшей личности, от нее в индивидуальных чертах своих резко не отграничиваемая (§ 21). Содержание личности определяется всегда условно, и в познании личности никогда мы не исходим из содержания конкретного индивидуума, тем более, что оно в пределах стяженного знания неопределимо, как ограниченно-индивидуальное. Практически в спорах о влиянии данной личности на исторический процесс граница между ею-ограниченною и ею-высшею все время меняется. Достаточно указать, что данная личность влияла на процесс таким-то своим качествованием, как сейчас сам собою появляется и ответ: это качествование данной личности обусловлено и вызвано таким-то воздействием другой, т. е. в конце концов, – является одною из индивидуализации высшей личности.