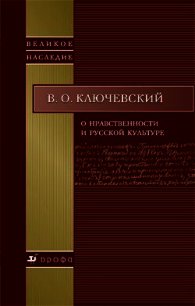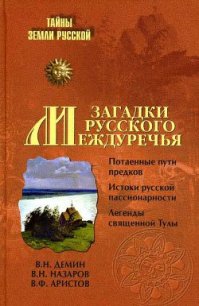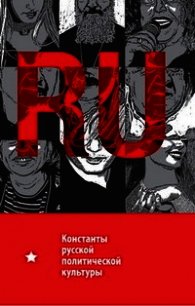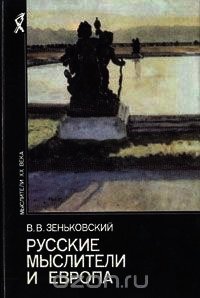Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века) - Лотман Юрий Михайлович
Послание раскрывает совершенно необычный облик занятий ложи «Овидий». Первая строфа прекрасно вписывается в стилистику декабристской поэзии. И упоминание насильственной революции (образы крови и стрел), и имя одного из вождей испанской революции связывают текст с злободневными политическими проблемами. Создается двойная «тайная» образность: провинциальный Кишинев (сравним Кронштадт, куда Рылеев предполагал отступить в случае неудачи в Петербурге) осмысляется сквозь образ испанского армейского центра, расположенного на крайнем юге Пиренейского полуострова: поднятая на периферийной границе революция победоносно шествует к своему «пределу» — в столицу (столицей для декабриста неизменно была Москва, и победа мыслилась как ее завоевание). Продвижение от Кишинева к Кронштадту или к Москве — русский вариант продвижения Риего и Квироги в Мадрид, а в конечном итоге — осуществление неудачной попытки Брута захватить Рим. Образность, стоящая за первой строфой стихотворения, как и ее стилистика, носит революционно-патетический характер.
Во вторую строфу вторгается совершенно, казалось бы, неуместная масонская образность («молоток»), развитая в заключительной третьей строфе («брат», «каменщик»). Свобода для «рабского народа» завоевывается с помощью масонского ритуального жеста и совершенно несовместимого с масонством политического лозунга («И возгласишь: свобода»). Напомним, что политические интересы были категорически запрещены масонству как занятия, искажающие самую цель ордена. В свое время Н. И. Новиков, мучимый сомнениями, обратился к известному теоретику масонства с вопросом: как можно отличить истинных масонов от ложных. Ответ: если в занятиях ложи обнаружится хоть след политики, то это мнимое масонство. Противопоставление нравственности и политики характеризовало масонство и в декабристскую эпоху. Следствием было то, что по мере созревания политического декабризма разрыв с масонством делался неизбежным. Даже попытки использовать масонскую структуру для конспиративной тактики оказались неудачными: масонские одежды рвались и расползались на плечах политического общества. Тем более странным кажется то, что мы узнаем о последней легальной ложе александровской эпохи.
Парадоксальное сочетание масонского «молотка» и политического призыва к свободе, комизм которого был очевиден для привычных к масонским текстам декабристов, завершалось строфой, открыто иронизирующей над попыткой одеть декабристское содержание в масонские одежды. Ясно ощутимая аудиторией масонская терминология (образ «темного града», «просвещенного» светом «братьев»-«каменщиков») комически контрастировала с образной системой первой строфы. Масонская лексика дается с отчетливой иронической интонацией. А типичный для кишиневских посланий Пушкина резкий стилевой контраст революционно-гражданской патетики и вступающей с ней в игру иронии воспроизводит пушкинское восприятие самой ложи «Овидий» — ее сущности и ее оформления.
Еще интереснее не получившее до сих пор отчетливого истолкования стихотворение «Вакхическая песня». Интуитивное читательское чувство подсказывает важность этого произведения — бесспорно, одного из лучших в поэтическом наследии Пушкина. Между тем смысл его остается недостаточно проясненным. В литературе, посвященной стихотворению, следует отметить статью Мурьянова [513]. Автор истолковывает «Вакхическую песню» как ритуальный масонский текст, произносимый перед началом орденской трапезы. Действительно, при чтении стихотворения у читателя возникают образы, связанные с масонством и напоминающие о нем. В этом смысле сближение «Песни» с вступлением Пушкина в масонскую ложу «Овидий» справедливо. Однако общее истолкование «Вакхической песни» как ритуальной масонской поэзии представляется совершенно неприемлемым.
Первые же строки стихотворения обращают нас к образности, решительно исключающей возможности ее масонского истолкования. Упоминания античной вакханалии и бокалов, поднятых за здравие возлюбленных, отсекают всякую возможность понимания текста как масонского. Провозглашение на масонском ритуальном ужине тоста:
как и называние ритуального гимна «вакхальными припевами» — в равной мере невозможны. В масонской поэзии могли встречаться квазилюбовные образы и сюжеты, но они носили мистико-аллегорический характер. В пушкинском же гимне поэтика мистических аллегорий полностью отсутствует. Сам образ вакханалии ведет к античной символике и полностью несовместим с ориентированным на библеизм масонским ритуалом.
Вместе с тем «вакханалия» понимается здесь не в поверхностном псевдоантичном смысле, а в ее подлинном, высоком значении — пира, на котором Радость возвышается до уровня культа. Это не демоническая радость романтика, а светлая, всепроникающая, объединяющая человека с космосом радость культуры греков. Композиция стихотворения — последовательное восхождение от поэтизации человеческого счастья к всеобщему благу человечества как высокому просветительскому культу.
Первая строфа «Песни» говорит о счастье, которое дается человеку любовью к «девам» и «женам». Эта высокая поэтизация любви как всеобщего закона резко отличается от героического аскетизма Рылеева («Любовь никак нейдет на ум, // Увы, моя отчизна страждет»). Следующий образ — поднятые бокалы с опущенными в них «заветными» (то есть тайными) «кольцами». Тост этот вслух не произносится. Значение его двояко: так пьют за здравие тайных возлюбленных, но так же пьют и за здоровье тех, чье имя закрыто конспирацией. В послании к Давыдову Пушкин вспоминает тосты, при которых
Речь идет о секретном тосте в честь карбонариев и свободы. В нем едины тайная любовь и тайная политика. Это характерно для Пушкина:
где личное чувство любви нераздельно слито с патриотическим чувством народа:
В следующих строках продолжается расширение образа: любовь становится космическим чувством. Она сливается с истиной и солнцем, и ей противостоят ложь и тьма. Гаснущая свеча и свет восходящего солнца — образы ложной истины, порождения рабского мира, и бессмертного солнца ума. Таким образом, в гимне, который Пушкин написал для «Овидия», его «масонство» — это союз мудрецов и свободолюбцев, утверждающих гармонию свободы и личного счастья с мировым порядком. Конечно, такой просветительский идеал уже утратил связь с масонством, но органически связан с распространенным в просветительских кругах представлением о всемирном братстве просвещенных мудрецов как о некоем «новом рыцарстве». Например, прямое отождествление свободолюбивого просвещения с рыцарством находим в «Горной идиллии» Г. Гейне. Истолкование декабристского движения как рыцарства свободы характерно для Дмитриева-Мамонова, одного из создателей декабристской организации «Орден Русских Рыцарей», сочинения которого попадали в Кишинев через М. Орлова. Факт наличия их в бумагах В. Раевского подтвержден документально. Можно предположить, что сама идея использования масонской ложи в подпольных целях декабризма отражает влияние Дмитриева-Мамонова на кишиневский кружок. Правда, вопрос о воздействии «рыцарских» идей Дмитриева-Мамонова на кишиневский кружок остается неясным и, видимо, никогда не будет выяснен. Следствие по делу декабристов обошло этот вопрос, а арест-заточение и последующее безумие Мамонова окончательно подвели под ним черту. Однако выше уже упоминалось о — фактически до сих пор не объясненном — интересе Пушкина к Дмитриеву-Мамонову в конце 1820-х годов — в период, когда имя его было прочно забыто. Образ Мамонова явно тревожил воображение поэта, и фигура его неожиданно возникает в различных пушкинских сочинениях. Так, Пушкин счел необходимым упомянуть его патриотическое поведение в 1812 году в неоконченной повести «Рославлев». Как показала Анна Ахматова, тень Дмитриева-Мамонова вставала в воображении Пушкина, импровизировавшего роман о влюбленном бесе [514]. Это свидетельствует, что имя Мамонова так и осталось для поэта окруженным ореолом таинственности — как и тайный «Орден Русских Рыцарей» и, по-видимому, практически не успевший реализоваться замысел «работ» ложи «Овидий». Существует предположение, что стихотворение Пушкина «Не дай мне Бог сойти с ума…» (1833) навеяно не только впечатлениями от посещения сошедшего с ума Батюшкова, но и памятью о Дмитриеве-Мамонове.
513
Мурьянов М. Ф.О пушкинской «Вакхической песне». — Русская литература, 1971, № 3, с. 77–81.
514
См.: Ахматова А.Соч. в 2-х т. М., 1986, т. 2, с. 119–126.