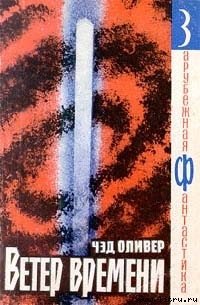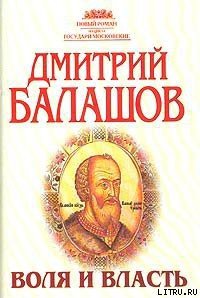Ветер времени - Балашов Дмитрий Михайлович (читать книги без сокращений .txt) 📗
– Ну, даришь, дак не забудь того, што подарил! – заключил Никита и прибавил, уже с коня оглядывая сверху вниз замотанного тряпицами, еле живого хозяина: – И впредь – не балуй больше! Внял? – И, уже не оборачиваясь, тронул коня.
В тороках всех пятерых тяжело молчали веские новгородские гривны: двухлетняя дань ордынская, владычная, княжая и плата за корм. Ехали молча. Уже когда перебрались бродом и отпустили назад заболотских провожатых, Никита, поглядев им вслед, изронил:
– Дурень. Как есть дурень! Свое промотал, в холопы записался, дак и сиди, сполняй! От твою! А он – князя корчит! Ему-де и Москва не указ! Какой же ты князь, коли не вольный человек?! – И еще раз сплюнул, зло, отчаянно. Сам был не волен теперь. Хошь и у Алексия самого… А иначе? – подумал. Иначе была бы плаха! И ни тебе жены, ни сына, ни Киева! А еще иначе: не тронь он Хвоста? Не полюби Наталью Никитишну? Не захоти стать вровень с дедом своим? Тогда и не родись, и не живи на свете! Эх, воля вольная! А тут – и я холоп, и он холоп тоже, оба единаки с им!
Он трусил впереди своей дружины и не глядел ни на красу земную, ни на поля, уже освобожденные от снегов, с первою зеленою щеткой озимых… Вот-вот по просохшей зяби ляжет первая борозда и пахарь босыми ногами, вздев пестерь на шею, пойдет по пашне, разбрасывая твердой рукою золотое зерно. И будут волочить следом борону-суковатку, будут гонять овец по полю, будут потом ждать дождя и молить Господа об урожае – все будет как каждый год, каждый век, с того еще дальнего времени, как начал сеять зерно древний изначальный человек, в поте лица своего добывая хлеб свой… И как нынче, теперь – со стороннего погляду ежели, – становят свято-торжественны и удалены от дел суетных лица пахарей! И как все мелкое, злобное, суетное – дани, кормы, бои вотчинников и князей друг с другом – отступает посторонь перед древним делом земли, перед творением хлеба, основы всего сущего!
Да и сам Никита, исполнивши веление власти, скоро вляжет в рукояти сохи и пойдет пашнею наравне со своим холопом, ибо нет лишних рук на весенней страде и работают все, и маститый боярин, ежели и не шевельнет сам рукоятью сохи, все одно с утра – на коне, на пашне, проверяет и строжит, а боярыня сама меряет и отпускает зерно сеятелям, и потому каждый помнит, знает, ведает, что значит хлеб и коим трудом созидается основа земной жизни!
С высоты являло взору, как голубой воздух, пронизанный светом, наполняет мир. Далекие леса стояли, легчая в аэре. По луговине разливалась вода, подтопив кусты, толкалась льдинами в высокий берег.
Клали трапезную. Взъерошенные кони тянули волокушами лес. Внизу, маленький, суетился боярин, задирал руки, кричал. Сергий, воткнув секиру, начал спускаться по подмостьям. Весело, сноровисто стучали топоры.
Боярин радостно пал в ноги. Кошель с серебром Сергий, не считая, отдал брату эконому. Прищурясь, оглядел боярина.
– Древоделей, говорю, подослать? – деловито тараторил тот, приняв благословение старца и с удовольствием оглядывая размах строительства.
Сергий, огоревавши зиму, с весны вложил все силы в созидание обители. А как только дошла весть о возвращении Алексия, почуял и к себе разом прихлынувшее внимание. Не обманывая себя, понимал: ради владыки! Но от доброхотных даров не отказывал. То, что у Троицы сотворялось годами, тут возникало в месяцы. И твердо, жестко даже принимал Сергий новожилов сразу на общее житие. И было легче так. Кто шел к нему, знал, на что идет.
Убежище его троицкая братия открыла еще по осени. Не дождав игумена, пошли в разные стороны. Один из чернецов забрел на Махрище. Иноки ему в простоте повестили: «У нас!»
Потом уж приходили, винились, звали назад. О том, что было меж ним и братом (да и было ли? Стефан не ведал, разве понял потом, почто он ушел тогда), Сергий не сказывал никому. И молчал в ответ на вопрошания и призывы.
После Рождества началось понемногу бегство к нему троицкой братии. Приходили, падали в ноги. Виноватыми чли себя все приходящие. Сергий ничего не объяснял и не поминал ни о чем. Так перебежали Михей, Роман, Исаакий, Якута. Весною явился Ванята. Пришел бледный, решительный, в березовых лаптишках, с посохом. Поглядев в глаза Стефанову сыну, Сергий, ни о чем более не спросив, принял отрока.
Просящих принять в обитель было множество, и Сергий брал, испытуя, и притом далеко не всех. Зато от доброхотных дарителей на новом месте не было отбою. Приезжал Тимофей Вельяминов, Андрей Иваныч Акинфов приехал перед самой весной, дал серебро на храм, доставил целый обоз снеди, долго ходил, глядел, кивал, одобряя, обещал выслать иконы суздальских писем и напрестольное Евангелие московских, Даниловых, мастеров, когда будет сведена кровля.
Храм во имя Благовещения заложили, едва протаяла земля. Выворачивали вагами мерзлые глыбы песка, закладывали камни под углы будущей хоромины. И уже первые ряды сосновых, из осмола, венцов означили начало сооружения.
Трапезную надлежало довершить на этой неделе, и потому, даже и таких наездов ради, Сергий с неохотою оставлял секиру. Боярин высказал наконец свою просьбу. У него народился сын, и боярину жалость пала – окрестить дитятю непременно у Сергия.
– Ехать недосуг! Сюда привози! – твердо отмолвил троицкий игумен, отметая дальнейшие уговоры. – Да не простуди младеня дорогой! Крестить должен по правилу отец духовный. Советую ти, чадо, гордыню отложи и крести сына своим попом. А как отеплеет, благословить ко мне привози!
Боярин заметался глазами. Видно, не подумал о таком исходе, но, неволею постигнув правоту Сергия, не мог, однако, так вдруг изменить замысел свой.
Сергий, оставя боярина додумывать, вновь полез на подмости. Боярин задумчиво глядел снизу на строгого игумена в лаптях и посконине, который издали казал мужиком, а вблизи, глянув пронзающим светлым взором, поразил его мудростью и почти что княжеской статью.
Топоры звенели в лад, с дробным перебором, несказанною музыкой труда. И Сергий, подымаясь все выше и заглядывая в провал хоромины, стены которой тесали сразу же, кладя очередные венцы, думал о том часе, когда в прорубы окон глянет эта вот даль и эта бегучая вода, и дубовый стол станет посереди, и лавки опояшут новорубленую трапезную, и братия впервые соберется тут, а не внизу, в дымной хижине, где обедали едва не на коленях друг у друга.
Шла весна, и, еле видные издали, курились дымами деревни. Мастера, нанятые со стороны, скоро уйдут. Близит страда. Пашни, освобожденные от снегов, уже ждут, просыхая, заботливых рук пахаря… Он на миг ощутил щекотно в ладонях рукояти сохи и сощурил глаза. Ранним утром отсюда, с высоты, слышен далекий тетеревиный ток. Божий мир был прекрасен, и прекрасна жизнь, отданная труду и подвигу. И путь его был по-прежнему прям, так, словно бы и сюда, на глядень, на высоту, продутую весенним тревожным ветром, привел его за руку Господь в мудром провидении своем.
Сергий поднял секиру и, склонясь, пошел вдоль бревна, стесывая его внутреннюю сторону. Дойдя до конца, закруглил и огладил угол. До начала кровли, до «потеряй угла», оставалось всего три венца.
Тайдула очень постарела за последний год. Лицо ее казалось уже не лицом, а пергаменной маской в жарком обрамлении драгоценностей и парчи. Она сидела в своей летней ставке, названной ее именем (и позднее превратившейся в город Тулу), в роскошной юрте ханского дворца, на парчовых подушках, выпрямясь, подогнув ноги и сложив руки на коленях. Только что у нее побывал Наурус, глядел хитро и жадно, выпрашивал серебро и людей. Ей ли не знать, что все сыновья Джанибека, все двенадцать, перебиты… И теперь изо всех них, мальчиков с оборванными жизнями, помнился почему-то самый меньшой – толстенький малыш, единственный не понявший даже, что его убивают… Будто бы сама родила, будто бы от груди отнял младенца жестокий Бердибек… с Товлубием… Оба зарезаны теперь! И ныне могут ли сказать они, зачем вершили зло, убивая детей? Вот этот – уже второй, называющий себя сыном Джанибека, а будут и другие, будут «воскресать», ибо народ, земля хочет, чтобы они воскресли! Кого убил ты, Бердибек? Себя ты убил! А я? Зачем не поверила русскому попу, зачем не надела крест на ребенка, не скрыла его, не увезла в степь? Как мало прошло времени – и словно долгие годы минули с той страшной ночи!