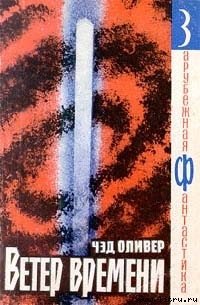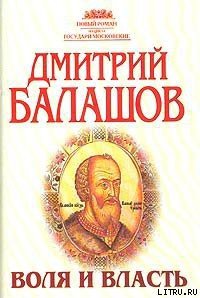Ветер времени - Балашов Дмитрий Михайлович (читать книги без сокращений .txt) 📗
Лето было в той поре роскошного расцвета, когда уже все раскрылось и расцвело, и травы поднялись в рост, и волнами ходит ветер по зеленым хлебам, но еще не коснулись ни того ни другого горбуша и серп и не проглянет пыльной усталости, ни редкого желтого листа в широко-шумных кущах дубрав, а все еще молодо, свежо и полно зеленого блеска, как жизнь, только-только вступающая в пору возмужания своего.
Из трех сыновей покойного Константина Васильевича Дмитрий был больше всех похож на отца. Андрей недаром уступил ему первенство и великий стол владимирский. И дело было не только в том, что на Андрея, сына гречанки, якобы косились суздальские бояре. Сам Андрей передал Дмитрию Степана Александровича и иных многих бояр и всегда поддерживал брата. Но Андрей чуял, что ему не в подъем борьба за вышнюю власть на Руси. Борис, младший, был и упрям, и жаден, но не хватало в нем широты братней – того, что подвигло Дмитрия Константиныча, получивши ярлык у Навруса, не настаивать на возвращении ярлыков обиженным Калитою князьям (и потому пролегла чуть заметная трещинка меж ним и сторонниками отца). Но теперь был удоволен и Константин Ростовский, добившийся наконец возвращения своей вотчины, и Дмитрий Борисович Галицкий (хотя и Владимир Андреич, юный московский княжич, имел по роду права на галицкий стол, но… и тем паче!).
Не мог не понимать и того Дмитрий Константинович, что с сими ярлыками, выданными законным владельцам, происходит умаление власти великокняжеской, что в споре с Москвой он толкает страну назад, ко времени уделов, едва зависимых от великого князя владимирского… И все-таки была радость! Воплощение отцовой мечты, его долгих усилий по заселению Поволжья, строительству городов… И Дионисий будет призывать его теперь и тотчас сбросить ордынское иго. Рано! Где как не у хана Хидыря сумел он получить бесспорную власть над Владимиром? Власть, которую можно купить и не надобно завоевывать в долгой разорительной борьбе, – она стоит ордынского выхода! Тем паче что со времени последнего «числа» людей в княжестве прибавилось втрое, а дань идет прежняя. Можно и заплатить!
Князь, сухой, высокий, породистый, оглядывает с коня встречающих, ловит взоры – скорее любопытные, чем радостные. Колокола бьют и бьют торжественным красным звоном, но эти лица не дают ошибиться князю. Владимир принимает его потому, что так порешил хан, но будет ли поддерживать в ратном споре с Москвою? Неведомо.
Долгий поезд князя втягивается в улицы. Жара, пыль, толпы глядельщиков по сторонам.
В новоотстроенном суздальском подворье – беготня, суета. Стряпают и пекут, захлопотанные слуги то и дело выскакивают за ворота.
Едет, едет уже!
По двору до крыльца раскатывают постав красного дорогого сукна. Стража в начищенных шеломах и бронях – от зерцал колонтарей скачут веселые ослепительные зайцы, подрагивают, сверкая, широкие лезвия рогатин – становится по сторонам дорожки.
Князь Дмитрий Костянтиныч спешивается, идет, по-журавлиному переставляя долгие сухие ноги в мягких, с загнутыми носами, зеленых тимовых сапогах. Подняв голову, выставив бороду вперед, подымается на крыльцо. Как встретит его и встретит ли митрополит Алексий?
Но Алексий прибыл, встречает. Князь целует крест и притрагивается губами к руке московита. Глядит в темно-прозрачные строгие глаза Алексия. Будь он византийским василевсом, в его силах было бы сместить Алексия с кафедры, заменить… Кем? Романом? Или лучше Дионисием? Но он не василевс и не имеет права без согласия Константинополя менять духовную власть на Руси.
Алексий, который доселе сожидал прибытия на поставленье нового новогородского архиепископа (новогородские слы только-только покинули Владимир), слегка склоняет голову. Он почти бесстрастен, вежлив и прям. Он пришел приветствовать и благословить нового великого князя, как и надлежит митрополиту всея Руси. (Будь Ольгерд христианином, он и его обязан был бы благословлять при таковой встрече.) Он и суздальский князь несколько мгновений молча изучают друг друга. Потом Дмитрий Константиныч в свой черед склоняет чело. Через час в Успенском соборе Алексий будет венчать суздальского князя на стол великих князей владимирских. И будет торжествен чин, и клир будет сиять золотом парчовых одежд, и хор греметь достойно, вознося хвалу новому владыке русской земли. И после венчания Алексий посетит княжеский пир и будет благостен и прилеп, так что даже Дмитрий Константиныч несколько смягчит нелюбие свое к московскому митрополиту…
Все это будет днем, и все это будет творить митрополит, владыка всея Руси. И так минет день до позднего вечера. Но уже к ночи в покои Алексия на владычном дворе проводят пыльного монашка в грубой дорожной рясе, проводят кухонными дверьми, минуя любопытствующую владимирскую обслугу. В темных сенях его принимает молчаливый придверник и ведет к лестнице, на верху которой монашка ожидает Станята. Гостю дают в укромной горнице торопливо поесть с дороги, и затем тот же Станята влечет его далее, в покои митрополита – нет, уже не митрополита владимирского и всея Руси в этот час, а местоблюстителя московского стола, кровно заинтересованного в том, чтобы его стол, его княжество, дело его покойных князей не погибли в пременах земного коловращения.
В этот час у владыки уже не так прям стан и не столь бесстрастно лицо (и не от дневной усталости, от другого). И отревоженный взгляд владыки вперяет с настойчивой страстностью в невидное, в мелких морщинках лицо монашка.
В покое полутьма, Станята стоит у двери настороже: разговора, который творится сейчас, не должен слышать никто. Монашек зовет хана Хызра, поиначивая по-русски, царь Кыдырь, Авдула называет Авдулем, покойного Джанибека – Чанибеком, но дело свое знает отменно, так, как никто другой. Алексию становит внятно в конце концов, что Хидырь не так уж прочен на троне и мочно «пособить» ему трон этот поскорее потерять, что у него нелады со старшим сыном и с внучатым племянником Мурутом, что Мамай таит свои особые замыслы и теперь уже стал много сильнее других темников, что объявился уже третий самозваный сын Джанибеков, не то Бердибеков – Кильдибек, не менее кровожадный и жестокий, чем двое предыдущих, что неспокойно в Булгарах, что замышляет новый переворот хан Тагай, что ожидается по всем приметам суровая зима и, значит, возможен джут и голод в степи и что всем решительно дерущимся ханам и бекам необходимо русское серебро для подкрепления власти своей и домогательств власти.
Монашек получает устные наказы, получает заемные грамоты к русским купцам в Сарае и Бездеже, по которым возможно получить серебро для подкупа ордынских беков, и, накрыв голову и лицо широкой накидкою, удаляется в ночь.
Алексий вздыхает, сидит, понурясь, глядя в огонь свечи, почти забыв про Леонтия.
– Разваливает Орда! – нарушает наконец молчание Станька. – Стойно Цареграду грецкому!
Митрополит молчит. Станята, осмелев, продолжает:
– Скоро ордынски ярлыки будет мочно покупать, как грибы на базаре, – кадушками!
Алексий поводит головою. Улыбается бледно, одними губами. Молчит. Выговаривает погодя:
– Ты поди повались! То, что мы творим ныне, греховно, Леонтий! Но я обещал крестному, что возьму его грехи на плеча своя! Поди! Кликни мне служку со сеней!
И уже когда Станята выходит, шепчет, глядя в огонь:
– Господи, прости мне и в этот раз по великой милости твоей!
Дмитрию Константиновичу скоро пришлось вкусить не только мед, но и горечь вышней власти.
Ордынская дань от братьев-князей поступала с горем великим. Воротившие наконец свои ярлыки Константин Ростовский и Дмитрий Галицкий никак не могли собрать потребного серебра, ибо долгие годы взимание даней находилось в руках московитов. И когда вирники, мытники, данщики, делюи московского князя отъехали, всяк купец, и ремесленник, и смерд, вздохнувши в веселии сердца, помыслил, что при родимом-то князе и платить возможно помене прежнего, а то и не платить совсем. А когда прояснело, что платить надобно не менее прежнего, и молвь, и брань, и котора восстали неподобные, и, как ни бились княжеские бояре, полного ордынского выхода собрать не могли никак.