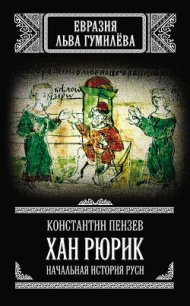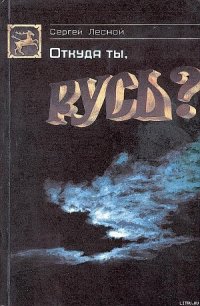Варяги и варяжская Русь. К итогам дискуссии по варяжскому вопросу - Фомин Вячеслав Васильевич
В оценке вклада Шлецера в копилку русской исторической науки Тихомиров в 1948 г. резонно заметил, что при этом надо различать его труды 60-х гг. XVIII в. и «Нестора» начала XIX века. Вскоре Г. П. Блок на конкретном материале продемонстрировал абсолютное превосходство Ломоносова над только что берущимся за изучение русской истории Шлецером. Так, в мае 1764 г. Шлецер представил в Канцелярию Академии наук небольшой сборник исторических и филологических этюдов на латинском языке под названием «Опыт изучения русской древности в свете греческих источников». И решительный протест Ломоносова вызвал тот из четырех этюдов, где Шлецер говорил о том, насколько после принятия Русью христианства русский язык изменился «под влиянием духа греческой речи», что можно подумать, «читая книги наших древнейших писателей», что читаешь «не русский, а греческий текст, пересказанный русскими словами». Остановился Блок и на анализе плана работы Шлецера над русской историей, предложенного им в июне 1764 г. Академическому собранию и обычно превозносимого в литературе, но при этом умалчивающей о некоторых его сомнительных «достоинствах». Так, в той его части, где речь идет об изучении летописей, он на полном серьезе утверждал, что к этому занятию иностранец «способнее, чем туземец». Отвергнув труды В.Н.Татищева и М.В.Ломоносова по русской истории и предложив в этом деле свои услуги, результат которых был уже предрешен, ибо русская нация, по его мысли, «обязана благодарностию чужеземцам...». И так говорил, подчеркивает Блок, человек, который «не написал еще ничего по истории России, кроме нескольких пробных страничек...». Ученый также показал правоту Ломоносова, оспорившего мнение Шлецера, что исторический стиль летописцев сложился на основе слога Библии. Заострил он внимание и на том обстоятельстве, что против назначения Шлецера профессором истории выступил не только Ломоносов, но и Миллер. Причем именно последний выразил основательное сомнение в чистоте помыслов Шлецера, напомнив его же слова, что он в России лишь желал собрать материалы, которые в Германии «мог бы употребить с большею прибылью». Действительно, по признанию самого Шлецера, он мечтал «в Германии обращать в деньги то, что узнавал в России»29.
М.Т.Белявский опротестовал суждение, что Ломоносов в своем отношении к Шлецеру руководствовался «исключительно личными мотивами». По словам исследователя, Ломоносов в действиях Шлецера, стремившегося дискредитировать его работы и опубликовавшего в Германии речь Миллера, увидел «новый этап наступления норманистов и стремление их монополизировать разработку русской истории и русской грамматики в своих руках». Отмечая «развязную самонадеянность» Шлецера, Г.П. Блок признавал, «как справедливо было негодование, с каким Ломоносов отозвался» о его плане, не руководствуясь при этом личными побуждениями. М.Н.Тихомиров отверг обвинения Ломоносова в «немцеедстве», в особой нелюбви к Миллеру. Параллельно с этим Д. Гурвич отметил, что Миллер и Шлецер «все, сделанное Ломоносовым в области русской исторической науки», постарались как можно скорее забыть...», ибо его труды являли собой «особую опасность для норманизма». И если в XVIII в., констатирует Гурвич, исторические труды Ломоносова знали, на них учились и им подражали, то «историческая наука XIX - начала XX в., по сути дела, не знала Ломоносова-историка; его исторические работы упоминались с такими оговорками, что ценность их казалась совершенно незначительной», в связи с чем, указывал Белявский, на фоне других сочинений ученого «его работы в области истории оставались в тени».
С.Л.Пештич уточнил, что именно Шлецер «своим авторитетом европейски известного историка и источниковеда направил историографическое изучение Ломоносова по неправильному пути». По мнению А.М.Сахарова, Шлецер, видя в нем «личного врага», не мог простить ему борьбы с норманизмом. В целом, как подытоживал ученый, в дореволюционной историографии «антинорманистские идеи Ломоносова не могли получить одобрения в науке, где норманизм стал официальной теорией происхождения Древнерусского государства», в связи с чем норманисты «постарались набросить тень на занятия великого ученого историей, третируя эти занятия как ненаучные». Говоря конкретно об оценке С.М.Соловьевым Ломоносова как историка, он квалифицировал ее как выведение исторических трудов Ломоносова «за пределы исторической науки». Сказал Сахаров и о «нигилизме» П.Н.Милюкова, совершенно отвергающем научное значение работ Ломоносова. Д. Гурвич справедливо указал, что «до наших дней сохранили свою силу некоторые легенды о Ломоносове-историке, пущенные в оборот норманистами еще в XVШ веке»30.
Историк П.Гофман (ГДР) констатировал, что мнение о Ломоносове как историке во многом определялось отрицательными высказываниями Шлецера, усиленными Соловьевым. Не сомневаясь, что Ломоносов в варяжском вопросе занял «прежде всего позицию русского патриота», ученый вместе с тем подчеркнул, что он, основываясь на превосходном знании источников и литературы, предвосхитил результаты исследований более позднего времени, Гофман, поставив перед собой задачу рассмотреть, насколько его аргументация соответствовала научным требованиям и принципам той эпохи, «удивлен был», что она нашла широкое отражение в последующих работах Миллера, а также заключил, что Ломоносов был на высоте исторической науки своего времени, тогда как его оппонент был ограничен как историк, при этом почти всегда относясь к источникам «совершенно некритически». Соотечественник Гофмана Э.Винтер, подчеркивая самохвальство и заносчивость Шлецера, что не могло не задеть Ломоносова, высказал мысль, что русского ученого против Шлецера настраивали Миллер и Тауберт. Так, по его мнению, два достойных человека «по недоразумению» стали врагами. Говоря о плане Шлецера, содержащем много верного и плодотворного, Винтер указал на «бессмысленность» его экзальтированных утверждений, что будто иностранец способен понимать древний язык народа лучше, чем коренной житель страны, и что он, благодаря знанию церковно-славянской Библии, уже является знатоком языка летописей31.
В целом же, суть работ о Ломоносове в отечественной историографии конца 40-х - начала 60-х гг. полностью укладывается в слова Б.А.Рыбакова, охарактеризовавшего норманскую теорию «величайшим злом русской исторической науки», а Ломоносова «прекраснейшим знатоком русской истории», обрушившимся на «ненаучные построения норманистов», и в твердую убежденность А.М.Сахарова, что значение трудов Ломоносова для борьбы с норманизмом «выяснены с достаточной полнотой и убедительностью»32. Но все было далеко не так, ибо разговоры о Ломоносове как «основоположнике антинорманизма в русской историографии», создателе «новой исторической концепции», разбившей «лженаучную» норманскую теорию33, были абсолютно декларативными. И сводились лишь к тому, что в споре с норманистами Ломоносов был прав в основном, «доказывая, что возникновение государства не может быть объяснено случайными явлениями, вроде призвания варягов», что его выводы «более соответствуют современной науке, чем норманистские убеждения Байера, Миллера, Шлецера»34. Эти разговоры были к тому же явно двусмысленными, т. к. диссонансом им звучали слова, что антинор-манисты «непомерно раздували некоторые, часто неудачные мысли и гипотезы Ломоносова», например, о славянской природе варягов35. Из чего непреложно выходило, вопреки официальным заверениям, что Ломоносов в споре с норманистами ошибался в главном, значит, ошибался в частностях. Следовательно, он уступал им как историк, что всегда и утверждала предшествующая историография, чьи воззрения на сей счет в послевоенное время подверглись весьма обоснованной критике36.
Подняться до действительной оценки Ломоносова как историка советским исследователям не позволял норманизм, с которым они расстались только на словах. Приняв во второй половине 30-х гт. марксистскую концепцию возникновения государства, они, именуя себя антинорманис-тами, продолжали видеть в варягах скандинавов. В таких условиях, конечно, никого не интересовали ни доводы Миллера в пользу норманст-ва варягов, нй их опровержение Ломоносовым, ни в целом его контраргументы норманизму, а сам разговор о дискуссии между ними по существу был беспредметным. Объективно судить об исторических возможностях Ломоносова мешал и вывод, что «главной побудительной причиной», толкавшей его на занятия историей, «была деятельная любовь к своей родине», что в дискуссии с Миллером он «выступил как ученый патриот, видевший недавнее господство немецкой клики Бирона в России»37. Об этом говорилось так подчеркнуто и так громогласно, что вкупе с норманистскими убеждениями научной общественности также заставляло основательно усомниться в параллельно звучащем тезисе о Ломоносове как выдающемся историке и ниспровергателе норманизма. Вот почему никакого отголоска не получило в историографии предостережение С.Л.Пештича, высказанное им в 1961 г., что «представления, унаследованные от старой объективистской историографии, о национальных чувствах, якобы затемняющих научный рассудок» Ломоносова, «нельзя принимать всерьез»38. Но вскоре сам историк, к сожалению, начнет судить теми же представлениями.