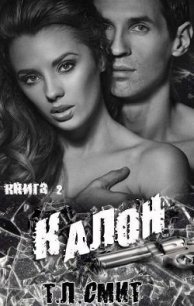Борьба за Дарданеллы - Мурхед Алан (читать книги без регистрации полные TXT) 📗
Но сегодня, 23 марта, перед Черчиллем лежала телеграмма де Робека, в которой говорилось, что тот без армии не возобновит операцию и это бездействие займет еще три недели. Тут же Черчилль садится за стол и составляет телеграмму с приказом адмиралу «возобновить атаку, начатую 18 марта, при первой же благоприятной возможности». Потом, созвав совещание с участием Фишера и Военной группы при Адмиралтействе, он представляет эту телеграмму для их одобрения.
Описывая это совещание, Черчилль, говорит: «Впервые с начала войны над этим восьмиугольным столом раздавались резкие слова». Фишеру и другим адмиралам казалось, что с телеграммой де Робека ситуация в Дарданеллах полностью изменилась. Они говорили, что всегда хотели оказывать поддержку чисто морской атаке, пока адмирал на месте ее рекомендовал. Но сейчас оба, и де Робек, и Гамильтон, против нее. Их трудности понятны: на них лежит ответственность. Было бы крайне ошибочно заставлять их атаковать вопреки их собственному суждению...
Черчилль не смог перебороть эти взгляды, хотя и использовал в споре в то утро огромную энергию. Когда наконец совещание завершилось безрезультатно, он все еще упорствовал в своем мнении. Но было очевидно, что он побежден. Асквит заявил, что согласен с Черчиллем, но приказа вопреки совету адмиралов не отдаст. В ходе дальнейшего обмена телеграммами де Робек остался непоколебим. В Дарданеллах бушевала непогода, а Гамильтон со своим штабом отправился в Египет. В Лондоне Китченер проинформировал Военный совет о том, что армия намерена взять у флота на себя задачу открытия пролива. Здесь уже нечего добавить, и Черчилль наконец сдался. Он любезно отправил де Робеку послание, сообщая, что его новые планы одобрены.
На Галлиполийском полуострове воцарилась тишина: в пролив не входил ни один корабль, ни одна пушка не выстрелила. Флот стоял на якоре у островов. Завершилась первая часть великой авантюры.
Глава 5
Турки относятся к туранской расе, которая включает в себя манчжу и монголов Северного Китая; финнов и тюрков Центральной Азии.
У англичан с понятием «турок» чаще всего ассоциируется эпитет «непередаваемый»: и неизбежная реакция против общего предрассудка принимает форму представления турка как «совершенного джентльмена», обладающего всеми достоинствами, отсутствующими у рядового англичанина. Обе эти картины нереальны...
Даже зная, что 18 марта нанесли огромный урон союзному флоту, турки и германцы никогда не могли и мысли допустить, что союзные корабли уже не возобновят атаку на следующий день. Солдаты простояли у пушек все утро 19 марта, а когда все еще не было признаков врага, они предположили, что виной этому шторм, помешавший кораблям вернуться в пролив. Но непогода утихла, день шел за днем, флота все не было, и чувство изумленного облегчения сменилось надеждой. К концу месяца эта надежда переросла в уверенность.
Был такой человек в Константинополе, который вправе был заявить, что никогда ни капли не сомневался в этом удивительном исходе. Еще в начале февраля Энвер говорил своим приятелям в столице, что все это чепуха, нечего бояться, враг никогда не прорвется. В марте он съездил в Дарданеллы, чтобы понаблюдать за ходом сражения, и по возвращении заявил, что оборона совершенно прочная, у артиллеристов полно снарядов, а минные поля целы. «Я войду в историю, — сказал Энвер, — как человек, продемонстрировавший уязвимость британского флота. Если они не подключат большую армию, то окажутся в ловушке. По моему мнению, это глупая затея» [5].
Поскольку в прошлом военные суждения Энвера были потрясающе необоснованными, мало кто как среди дипломатов, так и его коллег верил им. Но ничто не могло его поколебать. Как-то он доверился Моргентау, что, когда до войны он был в Англии, там видел много известных людей — Асквита, Черчилля и Халдейна — и говорил им, что их идеи устарели. Черчилль возражал, что Англия в состоянии защититься с помощью одного своего флота, а Энвер ему ответил, что ни одна великая империя не могла устоять, если у нее не было армии в придачу. И вот теперь Черчилль посылает свой флот в Дарданеллы, чтобы доказать Энверу, что тот не прав. Что ж, поживем — увидим.
В конце этой беседы, обернувшись к послу, Энвер сказал с серьезным видом: «Знаете, в Германии император ни с кем не беседует так задушевно, как я сегодня разговаривал с вами».
Это звучало не очень смешно. Энвер уже правил в военном министерстве как диктатор. Никто не осмеливался взять на себя принятие решения в его отсутствие, а самые опытные и знаменитые политики и генералы вели себя перед ним заискивающе. Ему ничего не стоило заставить султана ждать полчаса и больше на какой-нибудь церемонии или параде, и даже Вангенхайм начинал волноваться в присутствии этого маленького колосса, которого сам вознес, особенно когда после 18 марта позиции Энвера стали могучими, как никогда.
Во многих историях о Галлиполийской кампании утверждается, что неудачная морская атака на Дарданеллы явилась главной ошибкой не только потому, что провалилась, но и потому, что предупредила турок о приближающемся вторжении и дала им резерв времени для укрепления полуострова. Это, как мы скоро убедимся, достаточно верно, и все же кажется вероятным, что политические и психологические последствия 18 марта были еще более важными. Это была первая победа турок за столь многие годы.
С начала века страна не знала ничего, кроме поражений и отступлений, и турки уже стали привыкать (но не примирились) к деморализующему зрелищу беженцев, устремляющихся в глубь страны почти после каждого поражения. Возьмем лишь один случай из миллионов: мать Мустафы Кемаля была вынуждена бежать из Македонии, и он нашел ее совершенно без денег в Константинополе. Салоники, город, в котором он вырос и который он считал турецким по праву, стал греческим.
В одну особенно ужасную зиму в Константинополе Обри Герберт вдохновился на следующие строки:
Несомненно, Кемаль видел себя самого в этом свете, да и было много других таких, как он.
Герберт писал еще: «В 1913 году, когда Балканы одерживали одну сокрушительную победу за другой над плохо оснащенной и неорганизованной турецкой армией, во всех греческих кафе на Пера распевали песни триумфа».
Не только одни греки, но и армяне и другие национальные меньшинства были свидетелями турецких унижений, великие христианские державы добились для себя в Турции исключительных прав. Они контролировали ее зарубежную торговлю, руководили ее вооруженными службами и полицией, предоставляли кредиты банкроту-правительству в зависимости от своей оценки поведения этого правительства, а их граждане, жившие в Турции, были выше закона: по системе капитуляции западно-европейцев за правонарушения мог судить только суд их страны. Само собой подразумевалось, что турок не только неспособен управлять собственными делами, но он еще к тому же и не цивилизован. Турок олицетворял Калибана — опасное, но уже послушное чудовище, а европейские державы — Просперо, управлявшего им ради его же блага.
Первые пять месяцев войны мало что изменили в этом отношении. Однако, несмотря на то что религия и инстинкты учили турок рассматривать чужестранцев и христиан как нечистых рабов, ниже, чем животные, младотурки все еще жаждали быть современными, принадлежать Западу, и они все делали вид, что презирают методы Абдул Гамида. Энвер, правда, поговаривал об отмене капитуляций и введении особых налогов для иностранных резидентов, но скоро отказался от этих идей, когда узнал, что барон фон Вангенхайм возражает против этого.
5
После 18 марта Энвер изменил свое мнение. Некоторое время спустя, когда это ему ничем не грозило, он признался: «Если бы англичанам только хватило смелости бросить в атаку на пролив больше кораблей, они бы добрались до Константинополя».