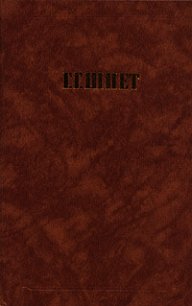История как проблема логики. Часть первая. Материалы - Шпет Густав Густавович (читать книги бесплатно полностью txt) 📗
2. Для того, кто под философией разумеет не просто всякого рода туманности и отвлеченные рассуждения на заданную тему житейской мудрости, а имеет в виду специальную группу предметов и вопросов, разрешаемых по своеобразному методу, для того отожествление, – популярное в эпоху «Просвещения», – «философа» и «просветителя» должно показаться столь же нелепым, сколько и претенциозным. Единственным философским моментом в Просвещении можно признать его стремление в обсуждении всех волновавших в то время вопросов исходить из какого-то общего мировоззрения или прийти к нему. По нашим понятиям, поэтому Просвещение не есть эпоха в философии, не есть какое-либо философское течение или направление, не есть даже популяризация философии, хотя популяризация знания вообще составляет, несомненно, одну из характерных черт эпохи. Но сама эта популяризация носит такой специфический характер, который, пожалуй, наиболее адекватно можно было бы передать современным термином публицистика [57].
Действительно, проблемы, занимавшие писателей и деятелей, которых принято считать выразителями эпохи Просвещения, были проблемами текущей житейской практики вообще, и в частности насущными политическими, социальными, религиозными и т. п. темами, философских задач в собственном смысле эпоха перед собою не ставила, самое большее философия служила только средством для решения вопросов социальной или церковной политики, государственного переустройства, защиты свободы слова, веры и т. д. «Просвещение» должно было служить только средством пропаганды соответствующих идей, освободительный смысл которых положительно состоял в неопределенном убеждении, что власть должна принадлежать никому иному, как просвещенным [58].
Это все, конечно, не исключает возможности найти в общем мировоззрении просветителей некоторые принципиальные, следовательно, философские основания. Но вопрос о них просто есть вопрос факта, так как по существу не видно, чтобы какая-либо философия могла быть преимущественно, – privilegium odiosum! – пригодна для указанных целей. И факт этот констатируется весьма наглядно в тех эклектических построениях, которые играют для просветителей нужную им роль. Несравненно существеннее другая сторона в деятельности и настроениях просветителей. Публицистическое обсуждение вопросов житейской практики неизменно выдвигает и для научной, и для философской любознательности новые вопросы, значительно расширяющие само содержание науки и философии.
Именно в этом смысле Просвещение XVIII века должно считать за собою особенно важную заслугу. Всякая наука и всякая философия может быть сделана предметом «просвещения», и рассматриваемая эпоха стремилась «просвещать» во всем том, что было до нее изобретено в области знания, – популяризовались особенно идеи, входившие в обиход науки «нового» времени. Но специальные задачи, – впервые тогда возникшей в широком масштабе, – публицистики наталкивали и на специальные философские темы. Вопросы права, политики, веротерпимости, свободного суждения и под. неизбежно выталкивали на первый план вопросы о самом человеке, во всех его значениях и отношениях. Что здесь необозримое поприще для научной и философской работы, теперь очевидно для всякого. А если сам XVIII век по преимуществу резонировал о моралистической стороне этих вопросов, то это столько же свидетельствует о его практических тенденциях, сколько о его философской слабости. Но и тут историческая справедливость требует признать, что моральные и прикладные выводы из философских предпосылок были в большей степени делом популяризаторов и публицистов, чем представителей философии; для последних во всяком случае они играли роль только «применений». И эпоха «Просвещения» в собственном смысле подходила к концу, когда Кантом был принципиально провозглашен примат практического разума.
Но было бы совершенно несправедливо за резонирующей и морализирующей стороной забывать те, в общем многочисленные, попытки серьезного научного отношения к новым проблемам, которые хотя и не исходили от самих просветителей, но тем не менее были выдвинуты временем Просвещения, в нем находили свою опору и пищу. Напротив, непредвзятое отношение к ним вызовет наше удивление перед их смелостью и разносторонностью, а их прямолинейность и некоторая примитивность имеет еще больший интерес в силу их новизны и начальности. Этика, эстетика, психология, антропология, этнография, юриспруденция, политическая экономия, филология, не говоря уже о науках, имеющих целью разрешение вопросов о физической стороне человека, – все эти дисциплины должны сохранить самое благодарное воспоминание о XVIII веке. Пожалуй, сравнительно в наименее благоприятном положении стояли вопросы теории и методологии исторической науки, но, как мы надеемся показать, и в этом отношении изучаемая нами эпоха не была слепой и немой [59].
Следует точнее установить рамки своего внимания, так как тот факт, что конец XVIII века, время «после» Просвещения как бы «внезапно» узрело философские проблемы истории, не отрицается вообще, а часто даже подчеркивается в виде противопоставления Просвещению.
Можно было бы сравнительно точно установить хронологические рамки нужной нам эпохи, если бы мы вошли в рассмотрение социальных причин просветительной публицистики, с одной стороны, и тех причин и условий, с другой стороны, в силу которых ее идеи воплотились, получив определенную общественную и государственную регламентацию и уступив место новым злобам дня и новым постановкам социальных проблем [60]. Но решение объяснительных задач здесь не входит в нашу цель, и мы должны ограничиться простым констатированием некоторых фактов, и притом наиболее общеизвестных. Неизбежная условность такого определения должна быть рассматриваема как методическое самоограничение; неизбежную интерпретацию мы считаем позволительной лишь в рамках приведенного общего определения.
Англия, Франция, Германия – в такой последовательности выступают обычно важнейшие из культурных народов, внесших свой вклад в Просвещение, в такой последовательности распространялись самые идеи, в такой последовательности, по-видимому, выражается их преемственность и последовательное влияние. Не отрицая специфичности в развитии каждой из названных культур, тем не менее признают нередко особенную родственность английского и французского Просвещения, противопоставляя его Просвещению немецкому. По существу же дела все эти противопоставления и разделения не только условны, но прямо-таки произвольны, пока не установлено с точностью историческое содержание «Просвещения» [61]. Наша задача не требует предварительного выполнения этой трудной и сложной работы; она проще в том смысле, что для нас важно не все явление во всем его объеме, а только одна сторона его: философские источники эпохи Просвещения. Однако исследование в этой области также ограничивается для нас конечной целью: местом исторической проблемы. Далее, так как мы не намерены остановиться вместе с «концом» эпохи Просвещения, то ее завершение и переход к новому периоду мы рассмотрим впоследствии полнее, и вопрос, таким образом, сводится только к условному фиксированию «начала» Просвещения в его философских источниках.
Последовательность в развитии мысли, как и всякого социального движения, не есть последовательность в смене династий и коронаций, а потому здесь не может быть и речи об указании года и дня. Априорно не может вызвать сомнений факт, отмечаемый, кажется, всеми историками культуры, что Просвещение XVIII века было во многих отношениях завершением эпохи Возрождения наук и искусств. Но также не подлежит сомнению, что ближайшие философские источники Просвещения нужно искать в результатах так называемой «новой» философии, т. е. философии, идущей от методологических и метафизических реформ Бэкона и Декарта [62]. Но, разумеется, наивно было бы думать, что названные «результаты» суть всецело и исключительно следствия только этих источников. Ни общее развитие культуры, ни в частности развитие наук, не должно оставаться без рассмотрения при анализе множителей этого произведения. С другой стороны, нельзя слепо принимать за определяющий факт простое ante hoc. Между тем по содержанию и по существу, какая же в самом деле «новая» философия была у Бэкона, если вообще у него была какая-нибудь философия? Если же и относить Бэкона к новой философии, то, во всяком случае, не за его философию, а скорее за его новое, «светское», настроение, выразившееся в провозглашении им regnum hominis и шедшее от настроений Возрождения и Гуманизма. Иное можно сказать о Декарте. Внутренняя связь его с церковной философией, в частности с философией отцов церкви, именно философией бл. Августина, факт достаточно веский, чтобы отнести Декарта к хранителям традиций античной и христианской философии, невзирая на то, что он является также учителем «новой» философии. А то, что, действительно, являлось новой философией, была философия светская, автономная и довлеющая себе по идее, хотя на деле часто отличающаяся от средневековой только господином: место у церкви она не редко меняет на место у государства. Сохранить традиции и в то же время освободиться от гипноза церковной догмы, – задача, требующая, действительно, непомерной силы. Пожалуй, только гений Спинозы впервые выполнил эту задачу философски вполне достойно.