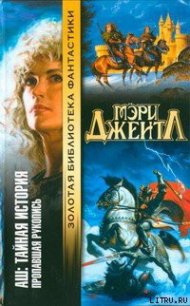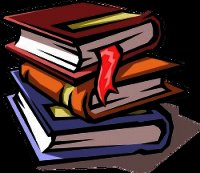Мой Карфаген обязан быть разрушен - Новодворская Валерия Ильинична (читаем книги онлайн без регистрации .TXT) 📗
Вот рыцари из солнца, их кони из темноты.
Из детской обиды их шлемы и копья, из тайны их щиты.
К Пятидесятнице святой они спешат на праздник свой,
Там гибель розой молодой на грудь упадет с высоты.
Тот, кто не понимает этой формулы, в России никогда ничего не сделает.
Лекция № 10. Через чистилище демократии — в ад диктатуры
У народовольцев были наследники. Такие же неприятные на вкус, на вид и на ощупь, как и их духовные отцы. И все они были на редкость похожи, несмотря на то, что постоянно конкурировали друг с другом, не разговаривали и всячески, еще до Октябрьского переворота, выясняли отношения. У Грина это все неплохо отражено. Там очень красиво показана панорама революционных кружков, где эсдеки и эсеры отбивали друг у друга аудиторию. Занимались они исключительно друг другом, забыв об объектах своих поучений. Объекты же находились в состоянии постоянной истерии. К тому времени уже водились народники, народовольцы, социалисты всех мастей, а тут еще, на наше несчастье, Лопатин перевел «Капитал», и немедленно эта толстая, скучная и очень специальная книжка была воспринята идеалистами как пятое Евангелие. Усвоена она была совершенно не критически. Примерно так же, как Дон Кихот усвоил свой рыцарский роман. Понятно, что прочитать про разные предания XII века в XVII-м приятно, но не следуют же из этого такие оргвыводы, что надо надеть на голову медный тазик и немедленно отправиться спасать человечество, воевать с ветряными мельницами, искать всюду сказочных великанов. Примерно такие же выводы были сделаны из «Капитала». Я думаю, что этих оргвыводов никто не предвидел: ни наяда, ни дриада, ни тем более, Маркс и Энгельс. Бедные европейские ученые при всей своей экстравагантности все-таки привыкли к нормальному буржуазному бытию, к теплому залу Лондонской публичной библиотеки, к хорошо приготовленному обеду, к хорошо накрытому столику в кафе, и им не приходило в голову, что их книжка попадет по сути дела в средневековую страну, где производство находится в рудиментарном состоянии, где промышленные рабочие являются чем-то средним между разинским и пугачевским контингентами, и что они со своей книгой станут родоначальниками новой Жакерии. Я думаю, что ни Маркс, ни Энгельс не представляли себе последствий, как любые фантазеры и утописты. Ницше никогда не представлял себе, что его очень экстравагантная, красивая, необычная философия может быть использована нацистами. Тем более не представлял себе этого Вагнер. Это ему и в кошмарном сне присниться не могло.
Та Парижская Коммуна, которую якобы Маркс и Энгельс приветствовали, во-первых, была где-то далеко, они ее не видели вблизи. Почта тогда работала плохо, телевидения не было. Когда коммунары валили Вандомскую колонну, этого CNN не показывало. Можно считать, что до них дошел слух, почти что сплетня, что где-то в Париже из их учения что-то интересное произвели. Надо сказать, что, к счастью, из этих их учений мало что успели произвести. Все-таки европейское воспитание сказалось. Коммунары не посмели национализировать банки. Эта наша знаменитая триада: банки, почта, телефон, вокзалы, телеграф — она как-то у них не сложилась. Они были теоретиками.
Они сели за стол в мэрии, написали манифест и стали думать, как бы им учредить республику и Коммуну. А Коммуну они себе представляли отнюдь не как коммунизм, а как парижское и французское самоуправление. Слово «коммуна» во Франции никогда не имело того значения, что в России. «Коммуна» было расхожим словом, на французском сленге коммуной назывался каждый город, каждый город имел городское самоуправление, и это и была «коммуна» с советниками по социальным и по экономическим вопросам. Они набрали заложников; однако, тронуть их не тронули, им не пришло в голову, что заложников можно убивать. И я думаю, что они были очень шокированы и удивлены, когда версальцы решили с ними обойтись, как с инсургентами. Это был заговор в кафе. Это был больше кинематограф и кафешантан, чем разинский и пугачевский бунт. И Флуранс, и Делеклюз были хотя и старыми волками социализма (как они думали), но про социализм они прочитали в книжках у Кабе («Путешествие в Икарию»). Они прочли очень много хороших книжек, сделали из них свои выводы и представляли они себе республику, социальный прогресс и социальное равенство примерно так, как это представляли себе даже не якобинцы, а старое доброе третье сословие образца 1789 года. Скорее даже как аббат Сиес и генерал Лафайет, потому что это были люди просвещенные, из хорошего общества, просто старые романтики. Бланки в этот момент фактически не участвовал в Коммуне.
Их очень жалко. Они, конечно, не заслуживали такого отношения к себе, как большевики.
Там был только один начинающий большевик, якобинец Риго, и он все время требовал, чтобы кого-то убили, кого-то повесили, кого-то ограбили, пролили кровь, но его коллеги по Парижской Коммуне просто пожимали плечами. К тому же во Франции всегда такие бульварные революции, очень красивые, с игрушечными баррикадами, вполне кинематографические. Они вошли уже в добрую традицию. Мало того: с 1789 до 1795 года у них вообще была сплошная перманентная революция. Потом 1830-ый, потом 1848-ой, так что 1871-ый у них просто вписался в сценарий. Единственное, что у них было красным — это красные знамена. И поэтому у Маркса были основания обрадоваться и мало было оснований ужасаться тому, что произошло, потому что это был заговор научных фантастов.
На самом деле, наверное, они даже не заслуживали того, что с ними потом сделали. Надо было посмеяться, надо было в газете написать про них какой-нибудь фельетон, совсем не обязательно было расстреливать и ссылать в Новую Каледонию. Французы очень сильно обожглись на 1792-м, на 1793-м, на 1794-м. Они принимали меры заранее. Это можно понять. Можно понять Гизо. Можно понять Тьера. Они ожидали, что на следующий день после победы коммунаров будет установлена новая гильотина, хотя ни Флуранс, ни Делеклюз не были на это способны.
Нельзя шутить такими вещами. Коммунары поплатились за неуместные шутки. Нельзя шутить охлократическим бунтом, нельзя никого поднимать против незыблемых законов нормального человеческого буржуазного общества. Нельзя отрицать частную собственность — даже на словах. Нельзя ставить под сомнение социальное неравенство в стране, которая очень сильно за это поплатилась. А Франция к этому моменту поплатилась за это достаточно сильно. Якобинский террор и гражданская война — это запомнилось на всю оставшуюся жизнь.
Поэтому не следует думать, что Маркс и Энгельс были хотя бы меньшевиками. Они были слишком хорошо воспитаны для того, чтобы быть меньшевиками. По нашей шкале ценностей Маркс и Энгельс тянули на кадетов. Не на октябристов, конечно; но на кадетов они тянули вполне. Никогда бы они не стали ни эсерами, ни эсдеками. А «Манифест»? Подумаешь, «Манифест»!
Их книжка попала в неблагоприятную среду. Те, кто смотрел в эту книгу, видели в ней фигу, а не то, что в ней было написано. В ней было написано совсем не то. Не говоря уж о том, что это просто шутка, пасквиль, оранжевая альтернатива по-польски. Методика польской Солидарности. Коммунистический манифест был написан как розыгрыш. Он был написан исключительно для того, чтобы дать пощечину филистерам. Маркс и Энгельс просто забавлялись. Им очень хотелось оскорбить общественные вкусы, вызвать какую-то резкую реакцию. Это опять-таки была чистая литература. Но эта чистая литература была воспринята у нас на Руси на полном серьезе, как руководство к действию. Вплоть до общности жен. Не говоря уж о том, что следует все обобществить. То есть большего абсурда представить себе нельзя. Тем не менее, родилось сразу два направления, причем впопыхах, следом за «школой» народовольцев.
Не успели народовольцы «сойти» (как сходят маслята, и потом появляются лисички или, скажем, белые грибы, а за белыми грибами, в свою очередь, появляются рыжики и грузди), как возникли эсдеки и эсеры. «Седые» и «серые» на тогдашнем сленге. (Так они назывались в фольклоре). Они были очень похожи. Чем же они были похожи? Совершенно антилиберальными тенденциями. Индивидуализм, как философия открытого общества, как философия общества, не имеющего конечного ответа, последнего ответа на все вопросы, не имеющего жесткой формулы и не имеющего надежды, на установление идеального общественного устройства, вообще не имеющего вектора надежды на какое-то царство Божие на земле, ими отрицался. Общественная конструкция у них выглядела следующим образом. Эсеры обожествляли крестьянина и видели в нем идеал. Эсдеки обожествляли рабочего. Ни те, ни другие ни в грош не ставили интеллигенцию, то есть сами себя. Они обожествляли коллектив. Коммунитарная психология лежала в основе их очень глубоких заблуждений. Понятно, что они были, во-первых, носителями славянской концепции. Сейчас это нам выйдет боком.