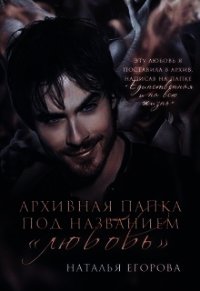Истребители - Ворожейкин Арсений Васильевич (книги онлайн полностью бесплатно txt) 📗
Меня вызвал комиссар полка старший политрук Калачев. Трубаченко подбадривал:
— Ничего, не бойся! Больше выговора не дадут.
Василий Петрович не мог знать, какие мысли кипели во мне. Сказать истинную причину поломки — больше никогда не управлять истребителем. Скрыть?..
И вот я в юрте, на полковом КП, стою перед командиром и комиссаром полка.
Кравченко сидит за столом и, слушая мой рассказ, молчит. Калачев сердит, глаза горят злым огоньком. Невысокий, складный, он беспокойно движется по юрте.
— Как это ты, комиссар, мог поломать самолет?.. Проявил явную недисциплинированность! Ты не можешь быть больше комиссаром!
Я заикнулся насчет ветра и неровности взлетной площадки. Он же только махнул рукой, не дав мне закончить мысль.
— Все взлетели, ветер никому не помешал! Плохому танцору всегда что-нибудь мешает… Оправдываешься? Не хочешь признать свою вину?
«Плохому танцору… Зачем он так говорит?» — подумал я. И вдруг до меня дошло: если я скажу насчет повреждения позвоночника, то никто сейчас не поверит, да еще после таких моих напряженных полетов… Сочтут, что я испугался и не хочу больше летать. Каким жалким предстану я перед этими мужественными людьми. Нет! Нет и нет!.. Этого сейчас говорить нельзя — лучше когда-нибудь позднее.
А Калачев все в том жетоне продолжал:
— Комиссар примером должен воспитывать людей. В этом и сила комиссаров-летчиков! А ты?
— Он воевал хорошо, — заметил Кравченко. — Летал неплохо, допущен до инструкторской работы на УТИ-4 и вывозил своих летчиков.
— Тем хуже для него! — подхватил Калачев. — Самоуспокоился! Переоценил свои силы…
— Виноват! Сломал самолет — накажите… Но только без лишних слов! — вырвалось у меня.
В свой голос я вложил, пожалуй, больше силы, чем дозволено подчиненному при подобных объяснениях. Калачев замолчал и, к моему удивлению, улыбнулся. Лицо подобрело, и он, подсев к Кравченко, внимательно глядя на меня, мягко сказал:
— Вот это деловой ответ. Тебе он больше подходит. — И, указывая на свободный стул, предложил: — А теперь давай все выкладывай о своем здоровье.
«Что это значит?» — подумал я.
Калачев посмотрел на Кравченко и, обменявшись с ним взглядом, ответил на мой безмолвный вопрос:
— Не думай, что нам ничего не известно из госпиталя.
В первый момент я опешил от этих слов, испугался, и у меня вырвалось:
— Все-е-е?..
Они оба засмеялись. Кравченко сказал:
— Воевать тебе мы не можем запретить, но и самолеты бить не позволим.
Глядя на них, я понял, что они знают заключение врачебной комиссии, но от полетов меня не отстранят. Они-то меня понимают!
Уезжая к себе, я видел, как полк во главе с командиром и комиссаром собрался в большую группу и строем клина эскадрилий, машин этак в девяносто (силища, какой еще не бывало!), пошел к линии фронта. Провожая строй, я уже твердо верил, что буду летать. Пускай накажут, снимут с должности — все переживу, но летать буду, а теперь даже обязан!
Вынужденный отдых все-таки обошелся мне дешево. Могло быть и значительно хуже. …А могло и ничего не быть… Ну что ж, кабы знать, где упасть, соломки постлал бы!
С конца июля действия нашей авиации приобрели явно выраженный наступательный характер. Мы все чаще и чаще наносили удары по вражеским аэродромам. Противник, усиливаясь численно, оказывал жесточайшее сопротивление, не допуская, чтобы инициатива в воздухе окончательно перешла в наши руки. Воздушные бои с обеих сторон приобрели особенно упорный характер. Истребители действовали с полным напряжением сил.
В один из вечеров к нам приехал Маршал Монгольской Народной Республики Чойбалсан.
Встреча с маршалом состоялась в большой полевой палатке на аэродроме 22-го истребительного полка. Свыше ста летчиков разместились за столами, составленными буквой «П». Электрический свет от движка, тарахтевшего рядом, празднично освещал собравшихся.
— В тесноте, да не в обиде, можно жить, — усаживаясь со мной, негромко говорил Василий Васильевич, не желая, видимо, привлекать к себе внимание старших начальников, разместившихся впереди. Он занимал теперь должность командира звена в другой эскадрилье полка, воевал неплохо, но «срывы» по-прежнему случались… Мы давно с ним не виделись и очень обрадовались встрече.
— Вон мой комэска, — Василий Васильевич почтительно указал на старшего лейтенанта, сидевшего напротив.
Это был Виталий Федорович Скобарихин. Недавно он первым из советских летчиков совершил таран. Весть об этом подвиге, как в свое время и поступке Грицевца, мгновенно облетела весь фронт.
20 июля командир эскадрильи Виталий Скобарихин вылетел на прикрытие наземных войск. От степных пожаров в воздухе стояла густая дымка. По небу плыли высокие кучевые облака. Это настораживало: бомбардировщики противника могли подойти скрытно к позициям наших войск.
Виталий вел девятку под облаками на высоте 3500 метров и не спускал глаз с просветов, откуда в любую минуту могли вывалиться вражеские самолеты. Командир не ошибся, Скоро И-97 мелькнули в окнах облачности.
Атака противника не застала врасплох наших истребителей. Завязался бой. Летчик Вусс, совершавший первый боевой вылет, сразу же отстал от группы. Японцы не замедлили воспользоваться этим. Пара И-97 бросилась к одиночному самолету.
Скобарихин сразу оценил обстановку: «Вусс, очевидно, не видит противника и летит по прямой». Виталий, не теряя ни секунды, развернул свою машину навстречу нападающим. Один из японцев уже сидел близко у Вусса в хвосте. Еще секунда промедления, и он срежет Вусса. Требовалось немедленно атаковать противника почти в лоб. «Но ведь при лобовой атаке очень трудно сбить самолет?» Это понимал Скобарихин. А сбить нужно, и обязательно с первой атаки, иначе будет поздно. Он также прекрасно знал, если пули и достигнут вражеской машины, то летчику они вряд ли принесут вред: спереди он защищен мотором. И решение пришло: «Если не собью, не отгоню, то самолетом ударю, а своего летчика выручу!» Он знал, что после удара от обоих самолетов может остаться только пыль, да на какой-то миг в воздухе сверкнут огненным шаром брызги бензина. Но решения не изменил. Он так стремительно и упорно помчался на врага, словно от этого зависела его собственная жизнь. А судьей для него в этот миг стала собственная совесть.