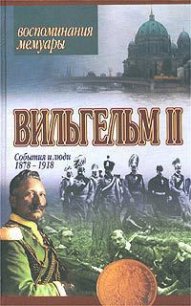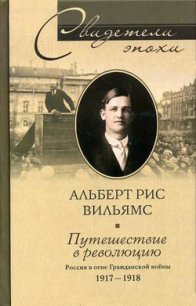Цареубийство в 1918 году - Хейфец Михаил (читать полные книги онлайн бесплатно .TXT) 📗
Прочитав эту переписку, я парадоксальным образом сочувствовал писателю, а не историку – парадоксальным, ибо по внутренней сути я близок именно к Эйдельману, которого как автора и любил, и ценил. Его главный просчет, по моей оценке, состоял в том, что хотя Эйдельман декларировал свое еврейское происхождение («Хорошо хоть фамилией своей подписываетесь, не предаете отца своего», – отметил Астафьев), но воспринимал этот факт как анкетный, а реально ощущал себя обычным русским литератором, не понимая искренно, что Астафьев его таким не считал и, главное, имел право не считать! Ибо хотя верно, что очень многое в нашей судьбе зависит от личного выбора, но – не все ведь: в каждом поколении мы завершающее звено в той бесконечной цепи времени, которую однажды в Пасхальную ночь увидел мысленным взором герой чеховского рассказа «Студент». Воля наших предков к жизни, их инстинкт к продолжению себя в потомстве воплотились и в Эйдельмане, и во мне в специфическом наборе неразрушимых генов – невероятно трудно эту крепость наследственности как-то взорвать!
Несовпадение национальных ментальностей отразилось в их переписке, в частности, по вопросу, которым я здесь занимаюсь: о гибели царской семьи. «Давно установлено, что большая часть исполнителей была екатеринбургские рабочие… Расстрелом царской семьи руководил не сионист Юрковский, а большевик Юровский» – и далее эйдельмановское («привычное уже вам трунение»), мол, якобы неизвестно Астафьеву, кто такие сионисты… Знает он все, отлично знает, но термином «сионист» прикрывал неприличное в те годы для употребления в СССР, казавшееся оскорбительным для его адресата слово – «еврей». Вы, мол, евреи, расстреляли царя и девушек, и обезножевшего мальчика – а они, погибшие, и мы, христиане, вас простили!
Сами видите, опасения Бруцкуса насчет нового «кровавого навета» начали оправдываться, если подобную идею разделял один из тех, кого историк Эйдельман назвал «властителем дум».
Тогда-то мне и захотелось задать Эйдельману вопрос: кем и когда, Натан Яковлевич, было «давно установлено, что большая часть исполнителей» оказались не латышами и евреями, а екатеринбургскими рабочими? Кто это, собственно, знал, кроме Вас? Я, например, человек, всю жизнь изучавший русскую историю, впервые прочитал об этом в Вашем письме к Астафьеву. Еще более усилился мой интерес примерно через два года – после прочтения в тель-авивском журнале «22» работы крупнейшего современного математика и видного в прошлом диссидента Игоря Шафаревича «Русофобия». Излагая в ней свою концепцию философии истории, он, правда, оговорил, что «мысль, что «революцию делали одни евреи», – бессмыслица, выдуманная, вероятно, лишь затем, чтобы ее проще было опровергнуть. Более того, я не вижу никаких аргументов в пользу того, что евреи вообще «сделали» русскую революцию, хотя бы в виде ее руководящего меньшинства»… Но одновременно математик отметил «большую концентрацию еврейских имен в самые болезненные моменты, среди руководителей и исполнителей акций, которые особенно резко перекраивали жизнь, способствовали разрыву исторических традиций, исторических корней», и, доказывая, привел несколько примеров, главным из коих является следующий:
«Особенно ярко эта черта выступает в связи с расстрелом Николая II и его семьи… Николай ii был расстрелян именно как царь, этим ритуальным актом подводилась черта под многовековой эпохой русской истории, так что сравнивать это можно лишь с казнью Карла I в Англии и Людовика XVI во Франции. Казалось бы, от такого болезненного, оставляющего след во всей истории действия представители незначительного этнического меньшинства должны были бы держаться как можно дальше. А какие имена мы встречаем? Лично руководил расстрелом и стрелял в царя Яков Юровский, председателем местного Совета был Белобородов (Вайсбард), а общее руководство в Екатеринбурге осуществлял Шая Голощекин. Картина дополняется тем, что на стене комнаты, где происходил расстрел, было обнаружено двустишие из Гейне о царе Валтасаре, оскорбившем Иегову и убитом за это.»
Оставляя оценку гипотез Шафаревича «на потом», отмечу лишь, что «Русофобию» можно сравнить с рукописью по математике, где в каждой главке есть любопытные и возбуждающие воображение задачи, но постоянно встречаются ошибки в арифметических вычислениях. Переводя это сравнение на язык историка, скажу, что автором «Русофобии» называются не те фамилии, должности, даты, действия – не говоря о более деликатных материях, вроде толкования человеческих мотивов в ходе исторического процесса. Например, Шафаревич не чувствует, что в душах «представителей незначительного этнического меньшинства», насчитывавшего тогда примерно шесть с половиной миллионов человек, российский император занимал место такого же законного и традиционного их светского повелителя, как для своих православных подданных. Продолжая его собственную историческую аналогию, представьте сегодняшнего французского мыслителя, отрицающего право гугенотов или горожан Страсбурга принимать участие в суде Конвента 1793 года!
Надеюсь, теперь читатель почувствует (к чему я и вел его сюжетами предыдущих главок), почему мной была сразу заказана машинописная рукопись Бориса Бруцкуса из университетского архива. Ведь он был современником роковых событий 1918 года! А прочитав его сочинение, я уже взялся за собственное расследование – изучение того, что же подлинно происходило внутри и вокруг Дома особого назначения, за историю не только самого преступления, но и следствия по данному делу.
Не буду строить повествование по законам детектива, интригуя читателя «загадкой архивной рукописи» до финала. Начну, наоборот, с ошеломившего меня ее основного вывода.
Изучив все доступные к середине 20-х годов источники и исследования, особенно главные – два тома «Убийства царской семьи на Урале» колчаковского министра генерала Михаила Дитерихса, книгу Роберта Вилтона «Тhе Last days оf the Romanovs», книгу следователя по этому же делу Николая Соколова «Убийство царской семьи», Бруцкус пришел к неопровержимому для себя заключению: версия цареубийства, разработанная в военно-юридических кругах колчаковского правительства, оказалась сфабрикованной фальшивкой, служившей идеологическим целям определенной общественной группы. Она дала возможность укрыться от суда истории важнейшим организаторам преступления, обвинив в убийстве непричастный к нему народ. Еврейский народ.
Это настолько противоречило тогдашнему моему представлению об общественно-политических силах российского белого движения, что, например, просто опубликовать рукопись Бруцкуса я не решался. Но и пренебречь его гипотезой тоже казалось невозможным: слишком очевидными выглядели благородство его позиции, безусловная защита жертв убийства, логика доказательств, серьезность подобранных фактов. И пришлось засесть за долгую работу, проверяя каждую строку его рукописи источниками, исследованиями, открытиями, которые накопились в исторической науке за последние 60 лет.
Глава 5
ИСТОЧНИКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ НАШИХ ДНЕЙ
Проверка фактов и гипотетических построений Бруцкуса облегчалась в 1989—1990 годах внезапным стечением поразительно благоприятных для моей работы обстоятельств. Признаюсь, такое более чем своевременное везение вдохновляло, а иногда пугало!
Например, незадолго до начала моей работы опубликовал самое серьезное на Западе исследование по этой же теме профессор Гарвардского университета (США) Ричард Пайпс.
Здесь, думается, уместно отвлечься от сюжета и сказать несколько слов о моем отношении к трудам этого историка, который видится сегодня лучшим знатоком общей истории России.
Отсюда вовсе не следует, что я согласен с каждой его концепцией или со всеми доказательствами. Всеобъемлющая правота в науке принципиально невозможна: «На исчерпывающее знание претендуют только дураки, имя же им легион» (Ф. А. Хайек). Наука невозможна без поиска, поиск – без ошибок. Кроме того, историческую истину принципиально невозможно изложить во всей полноте, даже если автор многое понял: исторические связи явлений принципиально бесконечны. Все вышесказанное относится к работам Пайпса: в них встречаются и ошибки, и неполнота изложения. Ценю же я его за честный поиск, за умение ощутить и выразить потаенную социально-психологическую атмосферу – такой инстинктивный дар, по-моему, и составляет природу таланта истинного историка.