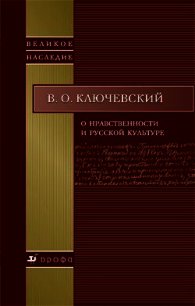Республика словесности: Франция в мировой интеллектуальной культуре - Зенкин Сергей (полная версия книги TXT) 📗
После разговора о Целане наш первоначальный вопрос (напомню рефрен «Меридиана»: «Я сейчас не пытаюсь найти какой-нибудь выход. Я лишь спрашиваю…» [587]) допустимо в очередной раз переформулировать так: речь для сегодняшней поэзии могла бы идти о решительном, по целановскому образцу, изменении способа участия и поэта, и читателя в поэтическом взаимодействии [588]. О стихотворении не как переносе готового содержания (смысла) готовым, упаковочным языком (формой), а как об акте деятельного присвоения языка в акте смыслотворения, в обращенной другому речи и предварении ее восприятия. Примером подобного изменения, когда поэзия вводит в уникальное и вместе с тем всеобщее состояние «здесь и сейчас», которое, однако, «всегда и везде», таким образом приобщая, сказал бы Целан, к «топосу… в свете утопии» [589], может служить недавнее стихотворение Ольги Седаковой «Музыка». Оно посвящено композитору Александру Вустину и, по моему ощущению, составляет камертон для возможной русской поэзии нового века. Показательно, что при почти сюжетной, новеллистической или балладной, закрепленности за временем и местом (пересадочный аэропорт в Центральной Европе) оно обращено к внесловесному и внеизобразительному, а призрачная обстановка происходящего заведомо обозначена как промежуточность — географическая, хронологическая, языковая, как «транзит». Здесь нет ничего вещественно-архитектурного, закругленно-зримого, а едва ощутимые остатки видимого (в его описании-перечислении преобладают негативные конструкции) растворяются в других, непредметных чувствах — сосредоточенном ожидании встречи и напряженном вслушивании в неведомое [590]:
И дальше:
Поэзия (оговорюсь: такая поэзия) не «передает» чувства и смыслы, а делает возможным их самостоятельное появление «у тебя», их потенциальное наличие, еще точнее — удержание их значимости. Она не то чтобы «консервирует», а скорее наделяет способностью регенерироваться, как бы переводит творческое состояние в спорадическую форму, всегда и везде открытую воссозданию, воскрешению личным усилием. Так что поэзия наделена здесь не коммуникативной, а креативной ролью: она — не механическая пересылка чувств и мыслей на расстоянии друг от друга, а порождение смысловых миров, событий взаимодействия между теми, поэтом и читателем, кого и создает, кому дает слова сама «поэзия».
Напомню мысль Бланшо, завершающую его эссе о Рене Шаре: «Поэт рождается из стихотворения. Рождается перед нами и опережая нас, как наше собственное будущее» [592]. Но эта опережающая способность не задана неким предписанным и непререкаемым могуществом поэта, его «властью» над словом, а потому над реальностью и собеседником. Она обоснована смысловой открытостью стихотворения, обращенного к невидимому и несказанному, его своеобразным отсутствием: «Стихотворение всегда отсутствует. Оно всегда по ту или эту сторону. Оно от нас ускользает, поскольку оно — скорее наше отсутствие, чем наше присутствие, и начинает с опустошения: оно освобождает вещи от них самих и беспрестанно замещает показываемое тем, что нельзя показать, а сказанное — тем, что нельзя высказать, очерчивая… горизонт очевидности, молчания и небытия, без которого мы не смогли бы ни существовать, ни говорить, ни быть свободными» [593].
Поэзия существует, «именуя возможное, откликаясь невозможному», — писал Бланшо, отзываясь на «Невероятное» Ива Бонфуа. Причем поэзия это невозможное «не выражает… не говорит о нем, не зачаровывает его чарами языка. Она откликается. Всякое начинающееся слово начинается, откликаясь, и это отклик на еще не услышанное, отклик, который весь внимание и в котором утверждается нетерпеливое ожидание неведомого и надежда, жаждущая яви» (EI, 68–69). Так понимаемая поэзия предполагает не безграничное расползание, экспансионистское распростирание говорящего «я», а его, напротив, съеживание, умаление — retrait, renoncement, abdication, пишет Бланшо в эссе о Симоне Вайль и со ссылкой на нее (El, 170). В этой связи он, напомню, ссылается на каббалистическое учение Исаака Лурии о «цимцум» — «самоустранении» или «самозабвении Бога» («l’acte d’abandon de Dieu» — EI, 169).
Такое уступание места Другому (по Целану, «стихотворение… продолжает путь к тому „другому“, которое… досягаемо, готово освободиться и, видимо, вакантно» [594]) движимо стремлением как бы заранее исчезнуть, но тем самым остаться на стороне «малого», исчезающего, губимого, обреченного уйти, — стать его местом и так, всеми возможными силами, противостоять его уходу и уничтожению. Для Целана во всех этих случаях быть на стороне, «быть в», «быть среди» значит не быть в стороне и на свой лад сопротивляться предназначенному уничтожению. А это путь к тому, чтобы сделать невозможное реальным, сделать явью — в ответ известной реплике Адорно — стихи после Освенцима. Так понимает дело Целана итальянский поэт Андреа Дзанзотто: «Целан делает реальностью то, что казалось невозможным. Он не только пишет стихи после Освенцима, но и пишет их „по“ его пеплу, принадлежит другой поэзии, метя стрелой в абсолютное небытие и, вместе с тем, сам пребывая внутри этого небытия» [595].
Иной способ участия поэта и читателя в акте поэзии, о котором говорилось выше, это и есть свидетельствование. Поэзия здесь — речь Другого, не имеющего голоса. Тем самым Целан вступает в круг поэтической поруки, начало которому для современной лирики положил опять-таки Бодлер. Это Бодлеру в «Лебеде» среди новостроек османновского Парижа видятся