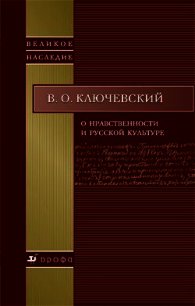Республика словесности: Франция в мировой интеллектуальной культуре - Зенкин Сергей (полная версия книги TXT) 📗
А значит, язык «математический»: для его характеристики сам писатель применяет понятие «призмы» [569], многогранника, подчеркивая тем самым значимость угла зрения, точнее, рассмотрения. Мысль Сюриа характеризуется этой постоянной переменой угла рассмотрения одного и того же явления, переменой почти незаметной, ничтожной, переменой, почти дословно повторяющей предыдущее положение, но всякий раз захватывающей какой-то новый момент все время ускользающей логики того, как устанавливается современный режим господства.
Язык тавтологический — не столько в логическом, сколько в математическом значении термина «тавтология» — и предельно «логический», поскольку он нацелен не на личности, не на имена собственные, даже не на историю современности, а на логику современного политического становления, в котором исчезает политика и под покровом прозрачности пропадает все, что некогда считалось личным, собственным, историческим, в котором вместо имен собственных, исторических личностей, народов начинают действовать местоимения, безличности, безликости, роли которых с особым блеском удаются либо заштатным актерам, либо законспирированным агентам. Словом, язык, как нельзя более подходящий для той «абстракции», которой достигло современное господство.
5. МОРИС БЛАНШО, НЕУМОЛКНУВШИЙ ГОЛОС [*]
Борис Дубин
Быть поэтом сегодня
Следующий далее текст — не обзор журнального критика с итогами развития современной лирики. Ниже излагаются соображения читателя, причем данная позиция в поле словесности для автора принципиальна, и этот читатель, биографически бесконечно обязанный стихам Блока и Анненского, Пастернака и Цветаевой, Мандельштама и Ходасевича, Тарковского и Бродского (называю лишь отечественные имена и ограничиваюсь фигурами ушедших), в ощущении значимости сказанного-сделанного ими задается сейчас вопросом о возможной — возможной ли? — сегодня поэзии. Поэтому в заглавии статьи уместнее был бы вопросительный знак — как, кстати, у самого Мориса Бланшо, когда он, в послесловии к французскому изданию стихов нашего соотечественника Вадима Козового «Прочь от холма», спрашивает: «Достойны мы сегодня поэзии?» или «Кто сумел бы сказать теперь „я — поэт“, словно „я“ вправе присвоить себе поэзию?» [571]. Этот знак вопроса был бы крайне важен, и важен именно здесь и сейчас — как потому, что речь идет о Бланшо, его манере думать и писать, так и потому, что эта речь касается поэзии и говорится о ней в сегодняшней России.
Морис Бланшо говорил о «великом достоинстве вопроса» и видел в нем «работу времени»: «Время ищет себя и испытывает себя в достоинстве вопроса» [572]. И дальше пояснял: «В простой грамматической структуре вопрошания уже чувствуешь эту открытость вопрошающего слова; в нем — требование иного, и в своей неполноте вопрошающее слово утверждает себя как всего лишь часть. Значит, вопрос […] по сути частичен, вопрос — это место, где слово всегда предстает незавершенным […]. Как незавершенное слово, вопрос опирается на незавершенность. Он — вопрос, но это не значит, будто он неполон; напротив, это слово, которое исполняется в силу того, что объявляет себя неполным […]. Оно обогащается этим заблаговременным отсутствием… Вопрос — это устремление [le désir] мысли» (EI, 13–14).
А время для Бланшо — и для всей модерной лирики начиная с Гельдерлина — это, конечно, «поворот времен» (ЕI, 12). Поэзия и время, поворот и предвозвещение связаны у Бланшо в семантике «конца века», о которой он, в частности, писал: «Каждый чувствует и всегда предчувствовал, что к концу девятнадцатого века и в начале, да и на всем протяжении века двадцатого, в двух странах (Россия, Франция, но и другие, например Англия с Т. С. Элиотом и его „Бесплодной землей“) поэзия, требовательность поэзии обнажили не просто крах языка, но глубочайший переворот всей социальной и интеллектуальной практики. Переворот, который настолько же катастрофа, насколько и обещание, катастрофа в самом обещании и vice versa Поэтическое произведение, уединенное, что бы ни связывало его с другими, являет в себе время, некое время, так что задним числом кажется пророчеством, хотя никто не в силах знать наверняка, что именно оно возвещает и не исчерпывается ли оно этой вестью либо, напротив, каждый раз возрождается в ней заново» [573]. И вопрос для меня сейчас состоит в том, как на такой «поворот» отзывается, может (и может ли?) отзываться поэтическое слово.
Если формулировать тему статьи как предмет специального — скажем, эпистемологического или культурсоциологического — разбора, то я, имея в виду этапную для середины прошлого века книгу Хуго Фридриха и развивая ее заглавие [574], обозначил бы эту тему как «коммуникативные структуры современной лирики». Вопрос, следовательно, в том, как сказанное поэтом может быть больше сказанного, втягивая в «уже сказанное им о…» новый, более общий смысл и включая в себя «нас», «тебя», «меня», порождаемых и утверждаемых, казалось бы, здесь и сейчас самим этим смыслом?
Проблема сказанного подразумевает несказанное (неизвестное; забытое; оттесненное от языка; извращенное языком). Иными словами, речь идет о свидетельстве и фигуре свидетеля — именно потому, что акт свидетельствования с обязательностью несет в себе, в своем устройстве фигуру обращения к другому. Признание себя свидетелем равнозначно самоименованию «я» («я — здесь», а значит, «я — сейчас»), но такому, что оно включает — в смысле содержит в себе и вместе с тем дает начало, начинает, запускает — фигуру воображаемого «ты», до которого свидетельство будет, должно быть донесено, почему и становится свидетельством, а не остается лишь «чувством», «впечатлением» и др. А это значит, что «я» и «ты» потенциально уже включены в невидимое, но значимое «мы», причастность к каковому символически обозначается, условно шифруется данным всегда здесь и сейчас, всегда непосредственно-реальным актом поэтической речи как обращения, ждущего встречного признания. Вручение и утверждение засвидетельствованного не состоится без общности «я» и «ты»; общность не обретет реальности без акта передачи и удостоверения свидетельства. И разговор дальше, следовательно, пойдет об условиях, границах (смысловых масштабах) и разновидностях (формах воплощения) способности и возможности свидетельствовать — не о сегодняшних поэтах и даже не о нынешней поэзии, а о ее возможности. Возможности быть свидетельством, внятным и нужным другому.
Так кто же и что, от чьего имени и кому говорит сейчас в поэзии? Мнимо простодушный романтический поэт, поющий «как птичка в поднебесье» из баллады Гете-Тютчева, модернистский демиург — бальмонтовский «сын солнца», «вольный ветер», или постмодерный «совершенный никто, человек в плаще» из давних стихов Бродского сегодня, кажется, уже равно невозможны или, что то же самое, не нужны. Если предельно обобщать, то источниками речи в сегодняшней поэзии — еще раз напомню, что не пишу ее истории, — как будто чаще всего выступают несколько вариантов: говорит «сам язык» (либо в мельчайших обломках, на которые раздроблен и размолот, либо в неповоротливых слежалостях коллективных наречий); говорит «традиция» (от привычного и безотчетного, эпигонского традиционализма через продуманный пастиш к игровому центону, пародированию, шутовскому выворачиванию и проч.); говорит «персонаж» (роль, маска — причем наиболее часто это маска простака, полудурка, идиота, впавшего в культурную деменцию). Иными словами, в поэзии так или иначе все еще варьируются разновидности самопоглощенного, нарциссического высказывания. Болезненным обстоятельством, вызывающим речь, остается исключительно проблематика и метафорика идентичности. А она, как правило, предполагает закрытое смысловое целое, то есть обязательную границу в воображаемом пространстве либо времени (точку «вне» или «пост»), или, по-другому, предполагает ответ, даже если он принял вопросительную форму («кто я?»). Вопрос здесь уже предрешает ответ, больше того, он и представляет собой ответ — это, продолжая метафору, письмо с оплаченным ответом.