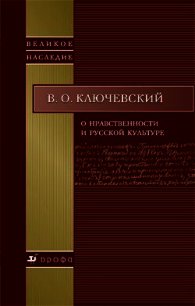Республика словесности: Франция в мировой интеллектуальной культуре - Зенкин Сергей (полная версия книги TXT) 📗
Сергей Зенкин
Морис Бланшо и образ
Михаилу Ямпольскому
Я чуть не озаглавил эту статью «Морис Бланшо, писатель без образов». Действительно, по первому впечатлению мир, создаваемый в его романах и повестях, почти лишен отчетливых и целостных визуальных картин, в нем преобладают отрывочные полуреальные детали или вовсе ирреальные абстракции, нередко действующие наравне с «живыми» персонажами [636]. Когда-то Теофиль Готье говорил, что он «человек, для которого видимый мир существует»; Морис Бланшо, как кажется, мог бы сказать о себе противоположное, во всяком случае симптоматично, что сам Теофиль Готье не существует для Бланшо-критика. И не только один Готье: в эссеистике Бланшо игнорируется вся традиция «реалистического», галлюцинаторно-яркого образа, сложившаяся в прозе второй половины XIX века, — и Золя, и Гюисманс, и даже Флобер, которому посвящена лишь маленькая статья, вошедшая в сборник «Бесконечный диалог» и совершенно не затрагивающая проблемы «зримого мира». Бланшо практически не писал о визуальных искусствах, редко упоминал живопись, еще реже театр, и впору задаться вопросом, ходил ли он вообще в кино…
И все же у этого писателя, враждебного репрезентации и серьезно интересовавшегося иудаизмом, религией без-образной, в этом сугубо вербальном творчестве, где литература путем рефлексии и практики углубленно исследует свои собственные возможности, — встречаются и моменты яркой, парадоксальной образности, где автор словно припоминает древнее предписание ut pictura poesis. Такие моменты в основном носят лиминальный характер: они встречаются главным образом в ранних произведениях Бланшо-прозаика, а внутри них чаще всего в первых, вступительных главах. Судьба романного персонажа завязывается в зримом мире, визуальные образы служат для нее точкой опоры, но в дальнейшем она отрывается от них в чисто языковую сферу, не поддающуюся зрительной репрезентации. То же происходит, как уже сказано, и на уровне общей эволюции прозаического творчества: визуальные образы играют значительную роль в романах и повестях 40-х — начала 50-х годов «Темный Тома» (1941) [637], «Аминадав» (1942), «Всевышний» (1948), «Смертный приговор» (1948), «В желанный миг» (1951), но затем последовательно сходят на нет в повестях 50–60-х годов «Тот, кто не сопутствовал мне» (1953), «Последний человек» (1957), «Ожидание, забвение» (1962), чтобы окончательно исчезнуть во фрагментарных книгах 70-х [638]. Что же касается теоретической рефлексии о проблеме образа, то в обильном критическом наследии Бланшо она встречается очень редко. Главное в ней — это несколько страниц из книги «Пространство литературы» (1955); впечатление такое, что здесь критик и теоретик подводит итог тому, что уже «отработал», оставил позади как писатель-прозаик.
Взяв в качестве материала ряд особенно оригинальных, специфичных для писательского творчества Бланшо случаев применения образов, я попытаюсь здесь, во-первых, показать неустойчивую, катастрофическую природу этих образов, а во-вторых, объяснить ее с помощью одной из наиболее проблематичных категорий современного искусства — категории сакрального.
Слово «образ», image, может пониматься по крайней мере в двух смыслах: как изображение, техническое (художественное) воспроизведение отсутствующего объекта, или же как вид, зрительное восприятие объекта присутствующего. В романах и повестях Бланшо, большинство которых написаны от первого лица, оба эти аспекта сливаются: искусственное изображение воспринимается с галлюцинаторной остротой действительного зрелища, а реально данное зрелище заключается в рамку наподобие картины или фотографии.
В романе «Всевышний» целая страница посвящена описанию ковра, который сестра героя бережно хранит в своего рода семейном музее (рядом с другим особо ценным для нее образом — фотографией покойного отца). Этот «ветхий» ковер, une vieillerie, имеет трехслойную структуру, включающую яркое изображение на первом плане, неясные фигуры на втором плане, и наконец материальные частицы, на которые распадается тканая основа:
«Очень старинный! Очень старинный!» И, повторяя эти слова, я вдруг увидел, как из стены выступает и врывается в комнату изображение громадного коня, встающего на дыбы прямо к небу и несущегося бешеным аллюром. Его поднятая вверх морда выглядела необыкновенно — дикая морда с безумными глазами, казалось, ее обуревает гнев, боль, ненависть, и эта невнятная ей самой ярость постепенно превращает ее в коня; он кипел, кусался, но все это в пустоту. Изображение было поистине безумным и к тому же несоразмерным: оно занимало весь первый план, только его и было видно, я как следует различал одну лишь конскую морду. Между тем на заднем плане явно имелось еще много деталей, но там краски, линии и даже основа ковра были разрушены временем. Когда я отступал назад, ничего не делалось виднее; когда подходил ближе, все вовсе спутывалось. Стоя неподвижно, я чувствовал, как сквозь эти лохмотья проступает, касается их какой-то легкий отсвет; там явно что-то двигалось; образ скрывался с обратной стороны, я разглядывал его, а он разглядывал меня. Что же это было такое? Разрушенная лестница? Колонны? А может быть, чье-то тело, лежащее на ступенях? Ах, фальшивый, коварный образ, исчезнувший и нерушимый; ах, это точно было что-то старинное, преступно старинное, мне хотелось встряхнуть, порвать его, и, чувствуя, как меня обволакивает облако сырости и земли, я был захвачен видимой слепотой всех этих существ, их безумно-бессознательным шевелением, которое делало их агентами какого-то отвратительного и мертвого прошлого, вовлекая и меня самого в самое мертвое и отвратительное прошлое [639].
Образ неустойчив в силу своей материальной многослойности, которая заменяет невещественную многоплановость обычного оптического образа. Одни слои закрывают, делают невидимыми другие, и в результате образ рвется вон из рамки, оказывается чреват темными энергиями, будь то «дикая» энергия изображенного коня или же невидимых насекомых, шевелящихся в глубине ткани. Этот образ не позволяет созерцать себя с какой-либо «правильной» дистанции («когда я отступал назад, ничего не делалось виднее; когда я подходил ближе, все вовсе спутывалось»), он сам «разглядывает» своего зрителя, агрессивно наступает на него, завораживает своей мощью и в то же самое время распадается на бесформенные частицы, на мельчайшие остатки материи.
Расслаивающийся, как бы «дважды экспонированный» образ неоднократно встречается у Бланшо. В самом начале романа «Аминадав» описывается картина-палимпсест — «неловко изображенная фигура» мужчины, которая «исчезала за монументами какого-то полуразрушенного города», то есть за остатками первоначальной пейзажной картины [640]. Передний план и фон наползают друг на друга, нарушая перспективную расстановку, а картинная рама, которая должна была бы стабилизировать эту расстановку, служить опорой для перспективы, сама двоится и теряет однозначность: собственно рама картины сама обрамлена дверью лавки, через которую видит ее герой романа. В романе это первый из череды эффектов затягивающей, неустойчивой перспективы; влекомый ими герой вступает в таинственный дом, чтобы блуждать по его лабиринтам до конца жизни.
В повести «Смертный приговор» кабинет одного из персонажей, сомнительного, полубезумного врача, украшает дважды — вернее, даже трижды, поскольку это фоторепродукция исходного оригинала, — экспонированное священное изображение:
На стене его кабинета висела замечательная фотография Туринской Плащаницы, фотография, на которой он распознавал два наложившихся друг на друга образа — не только Христа, но и Вероники; и в самом деле, позади лика Христа я различил черты лица ослепительно красивой — и даже величественной в своем странно горделивом выражении — женщины [641].