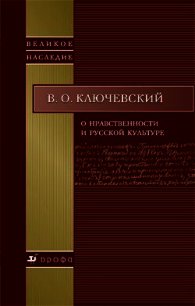Республика словесности: Франция в мировой интеллектуальной культуре - Зенкин Сергей (полная версия книги TXT) 📗
В «эффекте Барта» заглавная буква служит средством против этих колебаний. Ею форсируется самотождественность референта, связанного с единичностью Идеи. Теперь читатель понимает, почему ему предложили притормозить: ему нужно быть внимательным, ибо перед ним Единое. При каждом употреблении слова он теперь знает, что перед ним Идея и возвращение Идеи, которая бесконечно тождественна сама себе. Так обыкновенное само по себе употребление артикля получает от заглавной буквы новый смысл единичности.
Пример, взятый почти наугад, поможет сделать это яснее. С первой же страницы книги «О Расине» Барт выражает желание перечислить то, что он называет «трагическими местами», и начинает так: «Прежде всего, это Покои» («Il у a d’abord la Chambre» — О.С. I, p. 991 = 2, p. 59). В этой фразе происходит первичное упоминание; во вступлении к книге факт удостоверяется простым взглядом. Однако уже с этого первичного упоминания Барт пользуется определенным артиклем. То есть он, по-видимому, имеет в виду Идею: если бы он имел в виду отдельный предмет, предпочтительным (хоть и необязательным) был бы неопределенный артикль [97]. Так что же, смысл колеблется? Нет, потому что его однозначно определяет заглавная буква. Она показывает, что существо референта не только тождественно само по себе (без всякого упоминания ранее), но еще и отлично само по себе, среди всех возможных референтов; будучи тождественным и отличным само по себе, оно является внутренне, а не случайно, единичным. Это Идея Покоев, отличимая от ее множественных эмпирических манифестаций («покои Нерона, дворец Ассуира, Святая Святых, где живет еврейский Бог» — там же). Таким образом, читатель знает, что на протяжении всей книги любое, сколь угодно отдаленное, упоминание Покоев должно включаться в режим Того же самого и Единого. Заглавная буква, которой отмечено слово, не просто призыв сбавить скорость; у нее есть также и позитивная функция. Подобно заглавной букве в именах собственных, она отличает единичный референт и подчеркивает его самотождественность, поддерживаемую сквозь бесконечную множественность лексических проявлений; тем самым она подчеркивает, что этот единичный референт есть Идея.
II
Итак, на вопрос, унаследованный у Беньямина и Брехта, дается ответ. Он весьма далек от Беньямина и Брехта, хотя эти различия в ответе подтверждают верность одному и тому же вопросу. То, что он далек от них, вызвано различием во времени и в политике; это вызвано также и различием в стиле, как языковом, так и жизненном; наконец, это вызвано различием в философии.
В самом деле, мы ведь знаем, откуда взялась эта заглавная буква: из немецкого языка, считающегося языком философии. И мы знаем, откуда взялся этот определенный артикль. Это не что иное, как артикль в греческом языке, без которого философия, вероятно, и не смогла бы начать свою речь: to ti, to ti ên einai, to on [98] и т. д. Можно даже утверждать, что со времен Ионийской школы определенный артикль единственного числа является обозначением Идеи в себе и для себя. Латиноязычные философы, не имея в своем распоряжении равнозначной морфемы, вынуждены были импортировать ее в готовом виде, как римские зодчие импортировали в готовом виде капители и колонны. Это клеймо Идеи, подобно тому как в Апокалипсисе существует знак Зверя. Как мы видели, Барт использовал его в точности таким образом. Идея против техник воспроизводимости в языке — таков его собственный жест, начиная с первых текстов.
Однако этот жест не сводится к тому, что одна техника противопоставляется другим. Он влечет за собой обширные последствия. Это типографское ухищрение и языковая процедура предупреждают нас, что каждое употребление одного и того же слова должно рассматриваться как возврат к Тому же самому, а не как охват Многого; и мы видели, что это То же самое есть не что иное, как Идея. Теперь нам следует оценить, насколько это важно. При каждом употреблении слова читателю предлагается возводить глаза к одноименной Идее, к горизонту Единого. При каждом употреблении слова он как бы превращается в философа — по-иному разворачивается тело, на иное направляется взор, к иному устремляется порыв души. Можно ли говорить здесь об epistrophè [99] неоплатоников? Конечно, но только принять всерьез этот поворот к философии — еще не все.
Встает вопрос: может ли поворот к философии оставить нетронутой самое философию? Является ли в данном случае философия равнодушной поставщицей ауры или же надо предположить, что жест Барта способен произвести в ней возмущение? Избрав окольный путь через философию, не совершает ли Барт также и новый шаг в самой философии? Я утверждаю, что да.
Есть особый философский жест, свойственный Барту. Его силу до сих пор недооценивали, потому что не понимали его генеалогию. В связи с ним справедливо называли Маркса и Сартра, но если ограничиваться только этими ориентирами, то упускаешь из виду ориентир более важный и более скрытый — Платона.
Речь не о том неопределенном платонизме, под которым подписался бы любой эллинист, воспитанный в системе классического образования; Барт достаточно ясно показал, что он об этом думает, — хотя бы в юношеском упражнении «На полях „Критона“», которое он не преминул опубликовать в 1974 году (О.С. III, р. 17–20 = 4, р. 497–501). Но есть другая отсылка к Платону, более точная и определенная, — к «Пармениду». Действительно, пользуясь определенным артиклем и заглавной буквой в связи с фантазмами того или иного лица, или с различными гранями товара, или с рубриками ежедневной Газеты, Барт последовательно и настойчиво следует предписанию, которое Парменид давал Сократу (Parm. 130а-е).
Напомним его рассуждение. Парменид спрашивает у Сократа, признает ли он, что существуют сами по себе и сами в себе Эйдосы прекрасного и доброго (130а). Сократ не колеблясь соглашается. Однако он колеблется, когда Парменид задает тот же вопрос по поводу человека, огня, воды. Наконец, он отвечает отрицательно по поводу «таких вещей […] которые могли бы показаться даже смешными, как, например, волос, грязь, сор и всякая другая не заслуживающая внимания дрянь» (130с). «Предположить для них существование какой-то идеи было бы слишком странно», — заключает он (130d). Тогда Парменид говорит ему: «Ты еще молод, Сократ […] и философия еще не завладела тобой всецело, как, по моему мнению, завладеет со временем, когда ни одна из таких вещей не будет казаться тебе ничтожной» (130е) [100].
Обратимся вновь к Барту. Есть ли в его глазах марксиста-диссидента и тайного маллармеанца что-либо более ничтожное и низменное, чем то, что скрывает в себе товарная форма, или форма Газеты, или форма Моды? Приписывая подобным предметам закон определенного артикля единственного числа, подтверждаемый недвусмысленностью заглавной буквы, он возводит их в ранг Идеи, ибо именно таков этический завет последовательного платонизма. Быть платоником перед лицом сделанного, торгашеского, пустого, преходящего, индивидуального — вот таков ныне платонизм волоса и грязи, платонизм тех, кто остается платониками в самой глубине Пещеры [101]. Героизм этой фигуры и непреклонность этого замысла в конце концов привели Барта к выходу из Пещеры, чтобы взглянуть на Свет в упор. С той лишь разницей, что Солнце Добра обратило тень гномона к часам Смерти.
Итак, Парменид и Платон. Но генеалогия еще не полна, так как не учитывает всех языковых меток. Определенного артикля и заглавной буквы недостаточно, чтобы определить «эффект Барта», если не прибавить к ним еще одного признака.
Этот признак я обозначу термином, взятым у старинных грамматистов, — «эналлага». Enallagè — обмен, перестановка. Барт пользуется эналлагой категорий, особенно такой, когда прилагательное переходит в ранг имени. Приведу лишь несколько примеров — «lе lisse» [«гладкое»], «lе sec» [«сухое»], «l’obvie» [«наглядное»], «l’obtus» [«неподатливое»]. Могут сказать, что возводить прилагательное в ранг имени и тем самым в ранг Идеи — это то, чем всегда и занималась философия: «равное», «неравное», «истинное», «ложное», «справедливое», «несправедливое». Да, это так, но литературный французский язык этому противился — в отличие от греческого и немецкого. Он требовал для этого извинительной причины, скажем, в случаях технического или переводного термина. На это мало кто отваживался, кроме профессиональных философов в их академических трудах.