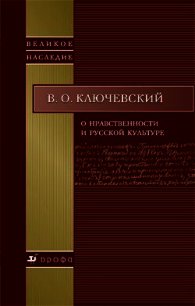Республика словесности: Франция в мировой интеллектуальной культуре - Зенкин Сергей (полная версия книги TXT) 📗
Даже и сами греческие и немецкие философы соблюдали здесь некоторую осторожность. В большинстве случаев их эналлаги относятся к «идеализируемым» предикатам, к таким, в отношении которых, без всякого сомнения, имеет смысл ставить вопрос об Идее (как бы на него ни отвечать); даже тот, кто отрицает, что существует Идея несправедливого, ложного или неравного, не может отрицать, что сам вопрос о ее существовании обладает хотя бы внешней серьезностью. Напротив, ему неизбежно придется поднимать и рассматривать этот вопрос, говоря о несправедливом, ложном и неравном. Но существует ли Идея сухого, влажного, неподатливого? В этом, возможно, усомнился бы даже Парменид, который не останавливался перед признанием Идеи грязи и волоса. Барт бесстрашно признает и такие Идеи.
Дело в том, что в философии состоялось нечто такое, что позволяет не только в греческом языке пользоваться соединенной силой артикля и эналлаги. Это «что-то» следует назвать по имени — феноменология. Скорее феноменология Сартра, чем Мерло-Понти. Немаловажный факт, что Сартр свободно пользуется эналлагой в своем трактате «Бытие и ничто»: «непристойное», «вязкое», «липкое», «вязкое», «тестообразное». В наши дни эти примеры кажутся заурядными, но в 1943 году они возмущали язык философов и ученых. Феноменология позволяет Барту пользоваться эналлагой. С помощью этого языкового приема становится возможно говорить о чувственном во всех его качественных подробностях, будь они непристойно заключены в товарную форму, или элегантно упорядочены в рамках кода, или просто предлежат благородству чувств и красоте языка. Эналлага — это исходная предпосылка свидетельства о чувственных качествах.
Однако Барт расширяет пределы эналлаги еще дальше, чем ожидалось в феноменологии. Как бы невзначай полученное от нее разрешение становится в его руках настоящим оружием, поставленным на службу Идее. Сартр послужил первооткрывателем. Как известно, в начале своей «Камеры люциды» Барт ссылается на его «Воображаемое». Этот знак почтительности весьма важен: он обозначает не столько возврат к Сартру после странствий в семиологии, сколько постоянное присутствие Сартра в мысли Барта. Присутствие в конце пути, но и в самом его начале: в 1971 году, говоря о публикации «Нулевой степени» (1953), Барт признает: «Я знал все, что можно было тогда прочесть Сартра» («Réponses» — О.С. II, р. 1311 = 3, р. 1028). Аналогично он высказывается и в 1979 году: «Какой Сартр много для меня значил? Тот, которого я открыл для себя после Освобождения, вернувшись из санатория, где я читал в основном классиков, а не современных авторов. Именно через Сартра я открыл современную литературу. Через „Бытие и ничто“, но также и через […] „Очерк теории эмоций“ и „Воображаемое“» (интервью с Пьером Бонсенном. О.С. III, р. 1072 = 5, р. 749).
Что касается языка, то Сартр присутствовал у Барта начиная с первой же эналлаги. В самом деле, можно утверждать, что первое решение Барта, с которого все и началось, еще до встречи с явлением воспроизводимости, заключалось в том, чтобы принять всерьез слова из книги «Бытие и ничто» (Sartre Jean-Paul. L’Etre et le Néant. Paris: Gallimard, collection Tel. P. 650): «В каждом качественном восприятии […] содержится метафизическое усилие вырваться из нашего удела, прорваться сквозь пробку небытия, заключенного в неопределенном присутствии [il у а] и проникнуть в чистое бытие-в-себе. Но, разумеется, мы можем схватывать качество лишь как символ какого-то бытия, которое всецело не дается нам, хотя и всецело присутствует здесь, перед нами […]. Мы будем называть это метафизической емкостью любого интуитивного открытия бытия […]. Какова метафизическая емкость желтого, красного, гладкого, шероховатого? А после этих элементарных вопросов встанет и другой — каков метафизический коэффициент лимона, воды, растительного масла и т. д.?»
У Сартра этими словами вводилась идея экзистенциального психоанализа, блестящий пример которого он находил у Башляра. Но в потенции они содержат и более обширную программу. Легко предположить, что Барт всегда желал сделать эксплицитной эту имплицитную программу и реализовать ее. Сделать из qualia главный путь метафизики, а метафизику — главным путем qualia, таков был его замысел. Осуществить его он мог, лишь отняв его у психоаналитиков с их тематикой глубины и связав его со своеобразной теорией Идей, одновременно согласной с Парменидом и свободной от оппозиции глубины/поверхности.
Но вернемся к букве: «Бытие и ничто» содержит эналлаги («гладкое», «шероховатое»), но почти не использует заглавную букву; ее нет в таких терминах, как «бытие-в-себе», «бытие-для-себя», «самообман», «тело-для-другого», «бытие-для-другого». Что может быть естественнее? Ведь заглавная буква в сочетании с эналлагой является признаком Идеи, а вопрос об Идее здесь не ставится. Феноменология — как либеральный протестантизм: он может говорить об Иисусе, не решая вопроса о том, существовал ли Иисус; так и феноменология может говорить о бытии-в-себе и бытии-для-себя, не решая вопроса о том, существует ли Идея бытия-в-себе или бытия-для-себя. Что же касается сартровской эналлаги, то она почти систематически применяется тогда, когда нужно обозначить моменты приставания, когда вещи приклеиваются к моему телу. Достаточно отослать к сартровскому анализу вязкого как реванша бытия-в-себе над бытием-для-себя (L’Etre et le néant. P. 656), симметрично соответствующему анализу качества как преодоления бытия-в-себе ради бытия-для-себя (Ibid. Р. 650).
Из этого колебания между приступом и отступом бытия-в-себе от бытия-для-себя, между приступом и отступом бытия-для-себя от бытия-в-себе следует заключить, что у Сартра эналлагой задается возможность Тошноты. Процитированные выше строки контрастируют и согласуются с другим местом, где «Бытие и ничто» комментирует сартровский роман 1938 года: «экзистировать свою случайность можно множеством способов, которые сами по себе случайны. В частности, когда сознанием не „экзистируется“ никакая конкретно боль, приятность или неприятность, бытие-для-себя не перестает проецировать себя по ту сторону чистой и как бы бес-качественной случайности […]. При этом эффективность становится схватыванием […] какой-то бесцветной случайности, чистым схватыванием себя самого как фактического существования. Это постоянное схватывание моим бытием-для-себя какого-то безвкусного и неотделимо-близкого вкуса, который сопровождает меня даже в попытках избавиться от него и который является моим собственным вкусом, — это мы описали в другом месте под названием Тошноты» (Ibid. Р. 378).
Отметим здесь заглавную букву — один из редких случаев ее использования у Сартра; зато она и взята из романа.
У метафизической емкости, скрывающейся в некоторых, случайных для случайного индивида качествах, есть две стороны: лицевую сторону образует эналлага некоторых прилагательных, а оборотную — постоянно сохраняющаяся возможность бес-качественности, восприятия грубой случайности. Однако, по Сартру, бескачественность никогда не бывает совсем бескачественной; с нею остается неизбывно связано некое призрачное качество — «безвкусный вкус, который является моим собственным вкусом», ибо у меня тоже есть вкус, как у мяса или овоща. Итак, эналлагой задается возможность Тошноты. И даже более. Наверное, следующий тезис покажется преувеличенным, но он позволяет многое понять: у Сартра эналлага прилагательного, превращаемого в имя, всегда скрывает в себе Тошноту. Эналлага борется с нею, скрывает и подтверждает ее.
Значение этого тезиса не понять, если не уяснить себе, что у Сартра Тошнота представляет собой свидетельство о реальности Пещеры. О ее физиологической реальности. Катастрофа сартровской Пещеры состоит в том, что чувственное в ней всегда может провалиться в Тошноту, что все свидетельствующее о чувственном может закончиться рвотой. Тем самым перед нами примечательное расхождение: определенный артикль и эналлага должны были лишь на время приостанавливать вопрос об Идее, у Сартра же они свидетельствуют о ее бесповоротном удалении; а Барт изо всех сил отстаивает противоположную доктрину — в точности наперекор Сартру, он старается делать так, чтобы эналлага не вела ни к какой Тошноте, ибо у каждой поддающейся именованию грани чувственного мира — у каждого quale — есть своя Идея, причем даже внутри Пещеры, даже внутри физиологической Пещеры. Перед нами открывается проект Барта: нужно спасти qualia, принять их сторону и заняться буквально высказыванием чувственности, не боясь амфибологичности этого слова. Здесь обнаруживается устойчивый принцип «эффекта Барта».