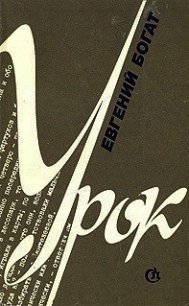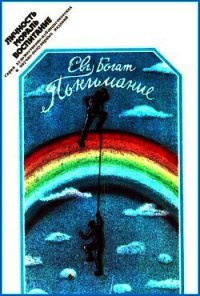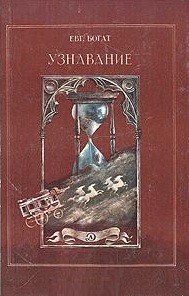Чувства и вещи - Богат Евгений Михайлович (серии книг читать онлайн бесплатно полностью .TXT) 📗
Замените в сократовском высказывании «лютню» на «телевизор» — и его ранящая актуальность станет очевидной, и одновременно вы убедитесь в том, какой это опасный соблазн — идеализировать старину.
С «институтом гостей» тоже дело обстоит куда многоплановей, чем казалось моему ослепленному читательским хобби соседу в самолете. В гости-то ходили не одни возвышенные тургеневские герои, но и купцы Островского, чиновники Чехова, мещане Горького… До отупения играли в карты, люто пили, били собственных и чужих жен, тоскливо рассказывали анекдоты. Нет более верной дороги к заблуждению, чем идеализация того, что было.
Да, любая идеализация любых ушедших форм, не только общения, уводит от истины, это аксиома, возвышал во мне голос сердитый оппонент, сидящий, видимо, в каждом из нас, но не менее опасно не видеть, не понимать уникальности современной ситуации, тем более такой, как наша, сегодняшняя. Ведь и лютня, и окошко на тихую улицу были «выходом» для тех, кто не думает, а телевизор делает порой «душечками» и людей, которые могут и любят думать, как мой старый товарищ и его жена. Мы живем в мире, который по вечерам освещается миллионами кино- и телеэкранов. Что это — новая могущественная реальность, рядом с которой реальный, живой человек может стать иллюзией?
Не берусь утверждать, что, явись я в выпуклой рамке полированного дерева, моя подлинность была бы более очевидной. Но, возможно, посещение мое удивило бы хозяев в этом случае меньше…
По чудесно емкому определению Маркса, общение — «один из способов усвоения человеческой жизни». Человеческой. Постараемся уяснить смысл этого обдуманного курсива.
Перед тем как сесть за письменный стол, я жадно допытывался в самолетах и поездах у незнакомых людей, как мыслят они человеческое общение в будущем, и получил много интересных и неинтересных ответов. Один из разговоров врезался мне в память особенно и может, вероятно, кое-что сейчас объяснить.
— Общения в сегодняшнем понимании не будет, — философствовал в экспрессе Ленинград-Москва мой попутчик, оказавшийся потом не астрофизиком, как думалось мне поначалу, а переводчиком. Его четкое лицо, эффектно украшенное, несмотря на пленительно тусклый, почти бессолнечный день поздней осени, большими защитными очками, было отрешенно, сухо-серьезно, будто бы замкнуто надежно на эти две черные торжественные застежки и наводило на романтическую мысль о том, что зрение молодого человека пострадало от непосредственного соприкосновения с яркостью сверхзвездных температур плазмы и нуждается теперь в охранительном покое. Он не читал и не посмотрел ни разу в окно; спал или думал. Задев его будто бы нечаянно коленом, я излишне подробно извинился и начал расшевеливать, пока не разговорил.
— Общения в современном смысле не будет, — уверенно сообщил он собственное мнение по волнующему меня вопросу как нечто само собой разумеющееся. — Наука и техника усовершенствуют коммуникации и чувства настолько, что вам и не захочется выходить из вашей кельи.
— Но даже монахи общались… — пытался я возражать.
— Монах, — сердито уточнил он, — сидел наедине с лампадой. Вы или я — наедине с миром, космосом. Можно будет не только видеть любой город, карнавал, космодром, но и обонять запах пармских фиалок, мексиканских роз или песка австралийских отмелей. Вы будете ощущать действительность при помощи сигналов, опоясывающих земной шар, пятью органами чувств…
Вагон крупно и мерно покачивало, уже сквозные леса за окном быстро истаивали и наплывали редеющими золотыми туманностями, легко касающимися обнаженной земли; день темнел, но огня в поезде не зажигали, и лица женщин, освещенные осенью, посмуглевшие, как от загара, казались одинаково юными при разнообразии выражений и красоты. Кто-то настраивал и не мог настроить гитару; кто-то, не дождавшись ее, запел. Мне уже не хотелось слушать моего попутчика, а он развивал, видимо, дорогие ему идеи. «Да, — думал я, — подобно тому как из величайшей бедности может быть рождено величайшее богатство, из величайшего богатства может быть рождена величайшая бедность». Потом, утомленный его рассуждениями, осведомился:
— А вы убеждены, что те самые пять чувств в обрисованной вами келейной ситуации останутся человеческими чувствами?
— Человеческими? — поиграл он замшевым носком закинутой на ногу ноги и, расцепив замкнутые на колене пальцы, развел руки, как бы обнимая ими лениво земной шар. — Объясните, если можете, ваши сомнения.
— Ну, — помедлил я в поисках доходчивой и образной аргументации, — если бы Дон-Кихот, начитавшись рыцарских романов, не помчался на Росинанте к людям, в живую жизнь, а остался бы у себя на пыльном чердаке, был бы он нашим любимым героем, любимым человеком?
— Дон-Кихот, — усмехнулся мой собеседник, — наполнил чердак иллюзиями. Я же толкую о том, что вы или я, не пошевельнув пальцем, лишь воспринимая сигналы, будем обладать реальным миром. — И с истинно королевским величием откинулся на вагонном диване. Он ударил голосом по «реальному миру», но я переставил в уме логическое ударение на «обладать». И колеса поезда, тотчас же подхватив эту перестановку, стали выстукивать: о-бла-дать, о-бла-дать, о-бла-дать.
Осмысленный перестук колес явственнее и явственнее вызывал в памяти содержание книги Жоржа Перека «Вещи».
5
Это история двух молодых людей — Сильвии и Жерома, — обреченно барахтающихся в океане вещей, умирающих от жажды обладания ими. Ковры, автомашины, шкафы, хрусталь, шотландские пледы, медные подсвечники, твидовые куртки, магнитофонные ленты, кожаные портьеры, драгоценные пепельницы, шелковые панно с изображением павлинов и листвы. Они это видят, обмирая, иногда покупают, чаще страдают от того, что не могут купить, надеются и тоскуют. Вещи волнуют и манят, как миражи в пустыне. Широкие, обитые черной кожей диваны, дорогие гравюры, стекло, отделанное серебром, рестораны, американские рубашки, замороженные изысканные блюда, кинофильмы, ножи с костяными ручками, автострады.
Вещи! Камины, галстуки, кресла, витрины портных, шляпниц, сапожников, антикварные магазины, медь, дерево, шелк…
Бесконечное перечисление этих имен существительных не утомляет, как утомило бы в рекламных изданиях; оно потрясает, в нем — динамика распада двух человеческих душ… Вазы, тонкое белье, туфли из плетеной кожи необыкновенной легкости, дорогие зеркала…
Когда я читал книгу, мне казалось, что вещи заполнили комнату и ворочаются, ломая острые ребра, вдавливая меня в стену широкими мертвыми плоскостями.
Кто-то из современных западных философов назвал окружающие нас рукотворные подробности мира — от электронных быстродействующих машин до самопишущих ручек — символами человека. Ему, видимо, казалось, что эта возвышенная формула поможет людям одолеть отчуждение, ощутить родственные чувства к сегодняшнему ошеломляюще разнообразному вещному миру, устранит страх и уменьшит соблазн. Раз символы человека, то есть в них что-то человеческое. Но в реальном мире это не более чем игра слов. Истина в том, что мы можем относиться к вещи по-человечески только тогда, когда вещь по-человечески относится к нам.
Возможно ли это в мире частной собственности? Исследование Перека содержит ответ емкий и точный. Не символы, а тени — в том одновременно и фантастическом и реальном понимании, которое заключает в себе печальная метаморфоза, изображенная Андерсеном в одной из его волшебных историй Пока тень послушно лежала у ног человека, он естественно, ее не замечал, но вот удалось ей оторваться от хозяина; он ощутил легкую тревогу, когда выглянуло солнце и оказалось, что земля вокруг него одинаково ярко освещена, потом успокоился, а тень стала жить сама по себе, набиралась сил и через несколько месяцев, когда герой вернулся из путешествия домой вошла в цилиндре и сюртуке с дорогой палкой к бывшему хозяину, удобно уселась в его кабинете, закинула ногу на ногу и потребовала, чтобы он обращался к ней на «вы» и покорно исполнял ее капризы.