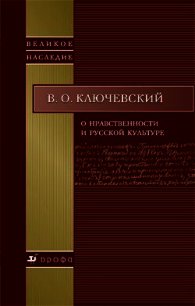Республика словесности: Франция в мировой интеллектуальной культуре - Зенкин Сергей (полная версия книги TXT) 📗
В работах Перри Андерсона о французской теории — те же проблемы, что уже фигурировали в связи с историками-исследователями. Андерсон — историк левого крыла, представитель британской версии франкфуртской школы, для которой историческое сознание — ключ к социальным действиям и преобразованиям. В «Спорах внутри западного марксизма» он обращается к «Анти-Эдипу» Делеза и Гваттари, где «желание» — «один из лозунгов субъективистского Schwarmerei [фанатизма, романтического энтузиазма], порожденного разочарованием в социальных возмущениях 1968 года» [193]. Заметим, что такими же определениями пользуются в «Говоря правду об истории» Эппельби, Хант и Джейкоб, особенно когда речь заходит о «разочаровании» (скептицизме, радикализме, экстремизме и т. д.). Кроме того, «Анти-Эдип» объявлен проявлением «унылого постлапсарианского анархизма». Все эти эпитеты имеют мало отношения к реальным работам французских теоретиков. В книге «По стопам исторического материализма» (1984) Андерсон говорит о «массовой расправе с [марксистскими] предками» в Италии и Франции, произошедшей под влиянием французского структурализма, альтюссеровского «скептицизма» и «утраты моральной убежденности в научном превосходстве марксизма» [194]. Слишком много «парижских сомнений». Слишком мало интереса к «действию» у французских теоретиков — но разве шизоанализ в «Анти-Эдипе» не разрабатывает множество связей для выхода из тупика субъекта и структуры? Андерсон называет интерес «Анти-Эдипа» к действию «раздраженным» (с. 35), однако его собственный труд «По стопам исторического материализма» читается как классическая марксистская попытка чистки левого крыла. С французской теорией он разделывается путем запугивания: у Леви-Стросса «стирающий жест» и «уничтожение человека», у Альтюссера «отмена субъекта», подавление референциальности, а французская теория в целом способствует «мегаломании» и, при посредстве Ницше, «отрекается от… стабильности значения». По всей видимости, противоядием всему этому является британское гегельянство/марксизм.
Стоит присмотреться к этим обвинениям в уничтожении истории, субъекта, языка — подлому переиначиванию французской теории как нацизма, ницшеанства, романтизма, антиисторизма и, что мне нравится больше всего, как «агностицизма» или проповеди невежества («По стопам…», с. 47). Достойна внимания и выстраиваемая генеалогия, близкая к гинзбурговской: если Леви-Стросс упоминает музыку, то это должно отсылать к Вагнеру и Ницше, а вся французская теория сводится к «мотиву изначального дионисийского буйства», плюс почитание «неприрученных» элементов («безумцев») у Фуко и «бессубъектный субъективизм» у Деррида. Французская теория = интеллектуальная катастрофа № 1 нашей эпохи?
Рамки статьи позволяют сосредоточиться только на приводимых «очевидностях» и «доказательствах». (1) Андерсон утверждает, что французская теория несет ответственность за «преувеличение роли языка», за превращение языка во что-то извращенное; она неправомерно распространила лингвистическую модель Соссюра на систему родства и вообще на все, что якобы связано с обменом («По стопам…», с. 40 и далее). Он протестует против такого «фундаментального расширения юрисдикции языка». Хотелось бы только знать, какова именно «юрисдикция» языка. Разъяснения отсутствуют. Мой автоматический тезаурус Wordperfect8 дает 50 определений термину «юрисдикция», причем каждое чревато яростными интеллектуальными спорами, как же можно не уточнить определение такого рода «юрисдикции»? Далее Андерсон утверждает, что «язык не годен быть моделью какой-либо иной человеческой деятельности», однако как быть с деятельностью ученого, переводчика, комментатора, аналитика, — разве они свободны в языке и от него? Попытка удержать язык в отведенных ему рамках приводит к странным сближениям. К примеру, обсуждая понятия «langue» и «parole», автор утверждает, что высказывания обладают полной «свободой», не имеют «каких-либо материальных ограничений… тогда как все основные общественные практики подчинены законам естественного дефицита…» (с. 44). Означает ли это, что учитывается лишь порожденный дефицитом язык? И можно ли считать дефицит внушающим доверие концептом, который удерживает язык в положенных ему рамках? Далее Андерсон отбрасывает индивидуальную речь ради «существенных предметов» общественного (политического и т. д.) характера, поскольку потенциально они — коллективные действия по преобразованию общества: одним росчерком пера он снимает все сомнения по поводу возможной разрушительности дискурсов таких коллективных действий и отказывается от многообразия, которое заключено и реализуется в любом «всего лишь субъективном» дискурсе. (2) Андерсон называет «преувеличение языка» французской теорией истощением истины (с. 45), которая «более не пришвартована к какой-либо внеязыковой реальности» (с. 45). Что же значит эта «пришвартовка»? Стояние в доке? Как и другие исследователи-историки, автор притягивает это «более не» к якобы свойственному французской теории «подавлению референциальности» — обвинение скверное и вполне безосновательное. В качестве единственного «доказательства» изобличается леви-строссовское использование концепта означающего, и без каких-либо дополнительных доводов утверждается, что французская теория отрицает «любое стабильное и интенциональное значение» (с. 46). Барт, заметим, доказывал, что подобная «стабильная интенция» — код с множественными эффектами и следствиями. Собрав вместе весь этот бред и заставив теоретиков утверждать вещи, о которых они не помышляли, все это энтиматически взваливают на плечи французской теории — убийцы, «разлучившей» истину с соответствием фактам. На самом деле теория истины как соответствия фактам — лишь одна из многих, и споры о ней ведутся с древних времен. Французская теория лишь напомнила, что теория соответствия работает как код, то есть представляет собой один старый, с длительной историей способ действия, а отнюдь не вневременный, универсальный концепт. (3) Все это в итоге представлено как поддержка французской теорией обеспорядочивания истории (с. 48), как вызов языку казуальности. Однако книга Андерсона не вводит никакого аналитического понятия казуальности: просто заявлено, что оно, как и принцип последовательности, поставлено под угрозу; далее приведены слова Эдварда Саида, который назвал свойственное французской теории чувство истории «узаконенным случаем». Но не получается ли, что этот «узаконенный случай» может негаданно оказаться вполне приложимым во многих местах, где власти (американские) призывали прекратить «случайное» насилие и устанавливали ровно столько «законности», чтобы притушить открытое насилие? Все три негативных эффекта французской теории сводятся вместе в «безжалостном и неразрешимом» письме, — что, верите или нет, передает реальный эффект, производимый на читателей многими текстами, в особенности «просвещенными».
Историки, о которых шла речь, выступают против французской теории открыто политически, с позиций академических «победителей». Само по себе это сопротивление теории и запрещение собственно французской теории весьма любопытно как полное отсутствие интеллектуально ответственного подхода к чужим аргументам, исследовательского отношения к ним. В этом смысле многообразные разоблачения — не столько исследовательская работа, сколько дележ рынка остатков метанарративных дискурсов. Большая часть упомянутых историков — «прогрессивные» фрейдисты, получившие профессорские места в середине 1970-х годов, когда французская теория стала широко доступна в переводах — не только Деррида, но и другие авторы. Нет сомнения, что дальнейшее изучение дискурсивной арматуры академического письма и институций даст интересные результаты, которые прольют свет на академические баталии последних 30 лет. На сегодняшний день эти историки, когда они ополчаются против своих соперников, заслуживают лишь скептического и критического отношения. Идет сплошная зачистка интеллектуальных перспектив; «победители» проявляют нетерпимость в самый момент «победы». Но, учитывая «упадок гуманитарных наук», чем же тогда распоряжаются нынешние «победители»?