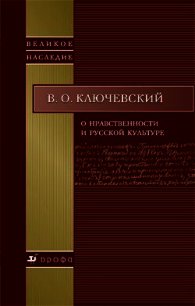Республика словесности: Франция в мировой интеллектуальной культуре - Зенкин Сергей (полная версия книги TXT) 📗
Система Калифорнийских университетов произвела довольно много работ по деконструкционизму, постмодернизму и французской теории. Это — публичное свидетельство, где историки ясно выражают свое отношение к французской теории. Одна из основных дилемм, которой они обязаны постмодернизму, рассмотрена в статье Линн Хант «История по ту сторону социальной истории» [180]. Хотя автор говорит о многих проблемах, связанных с написанием истории, но особенно ее беспокоит то, что теории текста разрушают социальную теорию, то есть «поддающийся обобщению рассказ о причинах и следствиях». Хант не отрицает, что моделирование нарратива всегда представляет собой «стратегический прием… ради политического контроля над прошлым». Но только возможна ли «социальная теория» в контексте полностью капитализированной социальной системы? — именно таков был вызов французской теории метанарративам. Грубо говоря, капитализм избавляется от социальной теории, постепенно заменяя ее собственными «системными» фактами. А характерное для Соединенных Штатов удивительное сочетание психологизма и экономического бихевиоризма может служить доказательством невозможности социальной теории. Хант призывает соединить феминизм с психоанализом ради создания социальной теории, способной организовывать нарратив и придавать ему метастатус; однако именно отказавшаяся от Лакана французская теория поставила психоанализ под сомнение. Когда Хант пишет, что «нам всегда придется рассказывать им [истории, метанарративы]», то это можно счесть безответственностью; психоаналитическая версия истории человечества имеет больше отношения к модели письма, нежели к поиску истины, и едва ли может выступать в качестве осмысленного и значительного опыта.
Поэтому, читая коллективный труд Линн Хант, Маргарет Джейкоб и Джойс Эппельби «Говоря правду об истории», с некоторым отчаянием обнаруживаешь, что американские способы приложения французской теории к историографии являются слишком «крайними» и что анализ исторической теории, извлеченной из Лиотара и иже с ним, ведет к гибели истории и исторического письма. Ужас грозит усомнившимся; в частности, цитируется некий критик историографии, высказывавшийся в том смысле, что «необходимо полностью отказаться от написания истории или признать, что в конечном счете история — одна из разновидностей вымысла» [181]. Заметим: французские теоретики никогда не утверждали, что «история — одна из разновидностей вымысла», с их точки зрения фиктивные компоненты сочетаются в ней с агрессивными фигуративными элементами, синтаксическими моделями убеждения, политическими взглядами, философскими пресуппозициями и т. д. — разномастной семиотической машинерией со смешанными социальными результатами. Согласно Хант и пр., постмодернизм и деконструкционизм означают, что «в конечном счете все концепты — иллюзорные создания данного момента» [182]. Это — совершенно гротескный редукционизм: кто когда-либо утверждал подобное? Ярлык «крайний» снова возникает при обсуждении Лиотара, который, по словам авторов, свел западную цивилизацию к «психозу», — такой метанарратив поистине неприемлем для историка. Почему? Заслугой лиотаровского контрнарратива было признание неизменно разрушительной, кровавой природы западной цивилизации. Лиотаровское прочтение греческих философов и иудаистских текстов (с близкими материалами работал Эрих Ауэрбах) позволило выдвинуть радикальную гипотезу. Тогда как просвещенческие системы контроля отнюдь не препятствуют капиталистическому воспроизводству, Лиотар (и иже с ним) предположил, что Запад можно представить в виде колоссальной монады, пожирающей будущее.
Вместо того чтобы лицом к лицу встретить такого рода идеи и разрывы, вызванные ощущением несостоятельности просветительского дискурса, французскую теорию сводят к утверждению, что «непреодолимой преградой на пути к истине выступает язык» [183]. Могут ли историки-исследователи открыто защищать «кратилизм», который косвенно поддерживает такая точка зрения? кто или что обладает непосредственным доступом к «истине» через язык, который якобы непрерывно связан с не-языком? Никто из причисляемых к французской теории авторов никогда не утверждал, что «язык = преграда», откуда же взялось это уравнение? Не является ли оно антипродуктом самих историков?
«Знание и постмодернизм в исторической перспективе» [184] — сборник, составленный на основе студенческих семинаров, проводимых историческим департаментом UCLA. Пугающее переключение с документированного исторического анализа на умножение интерпретационных моделей представлено в нем как плавный переход от причинности к значению: постмодернизм используется тут как общее наименование критических теорий языка. «Знание и постмодернизм» дает слово постмодернистам при условии, что они не лишают нас последней «надежды» (с. 386), это критики, которые способны — и готовы — «выпустить воздух из постмодернистского дракона», а разочаровавшиеся в Просвещении ученые, как сказано, отринули репрезентационные и коммуникационные правила. Труды Лиотара цитируются дважды на странице и характеризуются как «радикальные» — слово-страшилка, которое заменяет систематическое рассмотрение его идей. Утверждается, что деконструкционизм «разрывает текст на части»: «разрывает» — прекрасная синекдоха к «радикализму», «экстремизму», «насилию» и т. д.
Более отчетливо эту теоретическую фокусировку можно уяснить из работ таких членов исторического департамента UCLA, как Сол Фридлендер, Карло Гинзбург и Перри Андерсон. У всех аллергия на «французскую теорию». Фридлендер писал, что гипотезы Фуко и Леви-Стросса были «мрачными предсказаниями» по поводу исторического мира, и характеризует их как апокалиптические и антигуманные [185]. В другой работе он утверждает, что «сегодняшние умонастроения» захвачены ироническим образом чувств, приравниваемым к «уменьшению надежды». Хотя Фридлендер признает мысль французской теории о том, что «эксцесс» Холокоста не может иметь «завершения», но не надо думать, что он заговорил словами Батая, ибо в другом месте он утверждает, что деконструкционизм «исключает» ощущение «стабильной исторической репрезентации». Не слишком ясно, каким образом Холокост, оставаясь нередуцируемым событием, в то же время подлежит «исторической репрезентации». Историку отводится роль терапевта, который должен непрерывно «отдавать себе отчет» в том, что занимается репрезентацией прошлого, — кто же с этим не согласится [186]?
Ни один историк-исследователь не делал более решительных заявлений по поводу французской теории, нежели Карло Гинзбург. В 1986 году он обрушился с проклятиями на Деррида: «Меня глубоко волнует поиск истинного смысла… я решительным образом против всякой чуши в духе Деррида, этой разновидности дешевого скептицизма… дешевого нигилизма… такого дешевого и глупо-нарциссического… я решительным образом против этого» [187]. С точки зрения Гинзбурга, историк — знаток, гадатель и интуитивист по преимуществу, его эрудиция поставлена на службу интеллектуальному разносу во имя левацкого сопереживания жертвам истории. Насколько можно судить, первостепенное значение придается беспристрастности историка [188]. Любой скептицизм по отношению к этой модели отметается или приравнивается к фашистскому идеализму, будь то Хейден Уайт, Ролан Барт, де Ман или Ницше. В чем легко убедиться, заглянув в недавний труд Гинзбурга «История, риторика и доказательство».
Как почти все историки-эрудиты, которые путают эрудицию или собирание «фактов» со знанием, он стремится низвергнуть скептицизм или связать его с «радикализмом» и «экстремизмом», настаивая на том, что зависимость историка от документов важней нарративной репрезентации. Так защищается «реальность исследовательской работы» — однако «процесс исследования» невозможно представить: для этого необходимо предпринять литературную запись переживаний историка при чтении и обдумывании документов, т. е. некое непосредственное представление, которое уже поэтому не является «исследованием», возвышенным исследовательским актом. Гинзбург настаивает на том, что идентичность историка, его ответственность и бесстрастность, обусловлена актом исследования, меж тем как радикальный скептицизм, будь он мягким или жестким, проистекает из «такого понимания риторики… которое на деле противоположно доказательности» [189]. То есть существует «хорошая» разновидность риторики, связанная с доказательностью, и «дурная», связанная со скептицизмом; любое отклонение от «доказательности», помимо прочего, ведет к греху релятивизма.