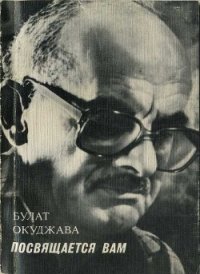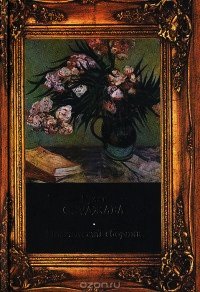Красные бокалы. Булат Окуджава и другие - Сарнов Бенедикт Михайлович (книги бесплатно .TXT) 📗
Любовь раздавая свою;
За рюмкой, за кружкой удалой
Я прежние песни пою.
Дмитрий Быков в своей книге об Окуджаве рассказывает о том, как Галя спела ее в последний раз:
...
7 ноября 1965 года первая жена Окуджавы умерла от острой сердечной недостаточности.
В этот день она зашла к Огневым, они немного выпили по случаю праздника, и она спела любимую песню: «И я была девушкой юной»…
Галина спела ее у Огневых, погрустнела, улыбнулась, сказала: «Ну, я побежала?»
Через час ее сын позвонил в их дверь: «Маме плохо!»
Вызвали врача, но «скорая» не могла добраться до аэропортовских домов из-за перегороженной Москвы: по праздникам центр был перекрыт. Побежали за врачом, живущим на нижнем этаже, но у того были гости и он не пожелал оторваться от застолья. Еще до приезда «скорой» Галина Смольянинова умерла от острой сердечной недостаточности. Игорь все это время сидел у Огневых, ему ничего не говорили.
(Дмитрий Быков. Булат Окуджава. М., 2009)
Не знаю, откуда взялась эта легенда.
У Огневых Галя накануне, может быть, действительно была. И эту свою любимую песню там у них, может быть, действительно спела. Что же касается всего остального, то все это полная чушь, имеющая весьма мало общего с тем, как это было на самом деле.
А было так.
Бледный, дрожащий, заплаканный Игорь прибежал не к Огневым, а к нам. С чего бы это он побежал к Огневым, которые жили в другом доме, а мы – тут же, этажом ниже?
И не было в нашем подъезде никакого врача, за которым якобы побежали (кто побежал?), «но у него были гости и он не пожелал оторваться от застолья».
Когда Игорь оказался у нас, говорить, что «маме плохо», ему не пришлось: без всяких слов все сразу стало ясно. И первое, что сделала Слава, – втолкнула Игоря в квартиру живущих рядом с нами Киры и Юры Эльпериных и, наскоро объяснив им, в чем дело, взлетела на восьмой этаж. Следом за ней ринулся туда и я. Но на полпути столкнулся с ней, уже бежавшей обратно, к нам, к телефону, чтобы вызвать «скорую».
Так вышло, что с умирающей Галей остался я один. А в том, что она умирает, не было никаких сомнений.
Она лежала навзничь на незастеленной кровати и задыхалась, хрипела. Это был даже не хрип, а какое-то жуткое звериное рычание. Милое ее лицо было неузнаваемо: набрякшее, как бы распухшее, лилово-синее. Тело сотрясалось от сводившей его судороги.
Не надо было быть врачом, чтобы понять: это агония.
Но я все-таки надеялся на «скорую», на какой-нибудь спасительный укол, сам не знаю на что.
Прошло минут десять-пятнадцать (мне они показались часами), а «скорая» все не приезжала.
Я стоял как столб, не зная, как и чем тут можно помочь. А она умирала. А «скорая» все не появлялась. И тут меня осенило: надо позвонить Лиле.
Лиля была близкая наша приятельница, очень хороший врач (в то время она была ассистентом самого Кассирского).
Лиля, когда я ей дозвонился и сбивчиво объяснил ситуацию, спросила:
– Сколько ей лет?
Услышав, что тридцать девять, она сказала:
– Ну, в тридцать девять лет за полчаса она не умрет. А через полчаса я приду.
Но Галя справилась: умерла именно вот за эти самые полчаса. Когда, как и было сказано, ровно через полчаса явилась Лиля, а вскоре вслед за ней и долго ожидаемая «скорая помощь», все уже было кончено.
И все это время, пока она умирала, я стоял, один-одинешенек, беспомощный, не знающий, как быть и что тут можно сделать. Лишь на миг мелькнуло в распахнутых дверях квартиры белое как стена лицо Левы Левицкого, и я снова остался один на один с умирающей Галей, с уже вплотную приблизившейся к ней смертью.
– Как же вы сказали, что за полчаса она не умрет? – упрекнул я Лилю.
– Я поняла, в каком вы состоянии, и хотела вас успокоить, – сказала она. И добавила, что такое (внезапная смерть в тридцать девять лет) случается не так уж редко и что, скорее всего, причиной Галиной смерти была эмболия, то есть тромб, закупоривший сонную или какую-то другую (я не понял какую) артерию.
Хоронили Галю на новом тогда Востряковском кладбище, раскинувшемся напротив старого, где была могила моего отца. (Спустя годы на том же кладбище, теперь уже давно не новом, хоронили Андрея Дмитриевича Сахарова.)
Булат сказал, что на похороны не пойдет. Он живо представил себе, как вся Галина родня и ближайшие ее подруги будут смотреть на него как на главного виновника ее смерти, на убийцу. Нет, он этого не вынесет. Не пойдет.
Но наша подруга Зоя Крахмальникова железным голосом сказала:
– Пойдешь.
И таки заставила его прийти и все время, что длилась эта печальная церемония, простояла рядом с ним, обеими руками крепко сжимая его руку.
Обсуждался ли с Булатом вопрос, как быть и что теперь делать с Игорем, я не знаю.
Наверно, обсуждался.
Многие тогда осуждали его за то, что он не забрал сына к себе. Но забрать его ему было некуда. А о том, чтобы жить с осиротевшим Игорем и новой женой в квартире, где только что умерла Галя, разумеется, не могло быть и речи.
Ольга неизменно повторяла, что готова была взять Игоря, но этому решительно воспротивились родственники Галины.
Те, кто осуждал Булата, говорили, что он был недостаточно настойчив, должен был не предлагать, а требовать, чтобы сын рос с ним, в его новой семье.
На первых порах Игоря забрала сестра Гали Ирина и увезла его во Владивосток, где она и ее муж Алексей Живописцев тогда жили. Но Булат не мог смириться с тем, что сын оказался в такой дали от него. И в конце концов было решено, что в Москву из Воронежа переедут дед и бабка Игоря, чтобы жить с внуком в его (теперь уже его) квартире, той самой, над нами, на восьмом этаже, в которой полтора года назад умерла Галя.
Решение это тогда казалось
не только разумным, но, по правде говоря, в сложившихся обстоятельствах единственно возможным. И никто не мог не то что предвидеть, но и предполагать, к чему в конечном счете оно приведет.
Поначалу и впрямь ситуация казалась благополучной (разумеется, в той мере, в какой это было возможно). Но Игорь уже вошел в так называемый пубертатный возраст, и деду-подполковнику, склонному не скажу к военной дисциплине, но к строгости и порядку, чем дальше, тем труднее с ним было справляться.
А пубертатный возраст стремительно переходил в тот, что у англичан и американцев называется тинейджерским. Теперь это был уже не мальчик и даже не подросток, а юноша – своевольный, а главное, считающий себя хозяином положения. С отцом он, наверное, вел бы себя иначе. А бабкой и дедом вертел как хотел и в конце концов совсем отбился от рук. И старики не выдержали – уехали в свой Воронеж, предоставив Игоря самому себе. И он остался один, теперь уже единственным и полноправным хозяином своей двухкомнатной квартиры.
Нетрудно представить, во что в скором времени она превратилась.
Конечно, слово «притон», которым злые языки ее уже наградили, тут было неуместно. Но такое словечко, как «пристанище», пожалуй, уже годилось.
Да, как это ни грустно, квартира Игоря очень скоро стала пристанищем для разных – не всегда даже близких – приятелей Игоря, что ни день собиравшихся у него для совместных возлияний и беспорядочных случайных соитий.
Внешне, однако, это выглядело вполне прилично: никаких шумных оргий, драк или скандалов – тишь, гладь и Божья благодать. И до поры до времени причин вмешиваться в эту ситуацию и сигнализировать Булату, что со старшим его сыном не все в порядке, у нас не было.
Но однажды Слава обратила внимание на то, что наш сын что-то уж больно часто стал заглядывать на восьмой этаж, к Игорю. Возвращался он от него довольно скоро и алкоголем от него при этом не попахивало, так что поначалу никаких дурных подозрений у нее не возникло.
То есть они возникли, конечно, но мне удалось как-то их развеять: обычная, мол, твоя паника на пустом месте. Тут надо сказать, что в состоянии паники (во всем, что касалось сына) моя жена пребывала постоянно. Так что развеивать разные ее подозрения было для меня обычным делом.