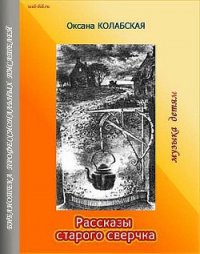Энциклопедия символизма: Живопись, графика и скульптура. Литература. Музыка. - Кассу Жан
По-видимому, никто не догадался вспомнить о Лафорге, уже далеко продвинувшемся в этой области, а тем более — об американском поэте Уолте Уитмене (из которого некогда Лафорг перевел «Посвящения»). Вот, например, начало «Барабанного боя» (1865) — одной из частей несколько раз переработанной автором эпической книги «Листья травы»:
(Пер. Б. Слуцкого)
Малларме одобрил эту «восхитительную свободу» и, взяв на себя труд провести различие между верлибром и стихом с варьирующимся размером, который можно обнаружить, например, в «Психее», в «Амфитрионе» или в «Баснях» Лафонтена, отдал должное молодым поэтам: «Всякая новизна устанавливается по отношению к верлибру, не к тому, который допускался XVII веком в басне или в опере (это была лишь последовательность метра разной длины без деления на строфы), а тому, который мы назовем «полиморфным»: он предполагает разложение традиционной метрики, если угодно, до бесконечности, лишь бы из этого извлекалось удовольствие. Иногда это фрагментарная эвфония, с изобретательной точностью подчиненная интуитивному чувству читателя, — таков Мореас; или же это вялый мечтательный жест, вздрагивающий от всплесков страсти, — таков Вьеле-Гриффен; но прежде всего таков Кан с очень ученой констатацией тонального значения слов. Есть и другие характерные имена, которые я не называю, — Шарль Морис, Верхарн, Дюжарден, Мокель, и все они — доказательство моих слов: достаточно обратиться к тексту».
Не все настолько смелы. Иногда у Верхарна, большей частью у Анри де Ренье мы ближе к смешанному метру стиха, чем к верлибру, «стиху без рифмы и метра», который прославил поэта Кьевра в драме «Город» Клоделя.
Символизм во времени и пространстве
Скорее, существуют символисты, чем единый или определенный символизм. Без сомнения, первоначальный импульс дала Франция, и ее место в развитии символизма трудно переоценить. Рассматривая символизм в других странах, можно легко заметить, что он по большей части либо обособляется от французского, либо солидаризуется с ним. Причина тому
— более позднее, чем во Франции, развитие символизма в других странах.
Предшественники
Символизм родился из встреч: встреч литераторов и людей искусства, а также встреч более или менее не связанных между собой течений. Трудно найти отправную точку. У него было, по меньшей мере, несколько предшественников.
Можно было бы дойти до поздней латинской поэзии, до «Метаморфоз» Апулея, насквозь пронизанных мистическими культами, как это сделал Гюисманс. А можно обратиться к эзотеризму Якоба Бёме или Сведенборга. В любом случае в романтизме есть мистические черты, предвещающие символизм. Для Колриджа поэзия есть «способность открыть тайну вещей». Новалис воспевает ночь как «средоточие откровений», и для него природа — огромный символ. Бодлеровская доктрина соответствий будет искать опору в немецком романтизме, в частности у Гофмана. Но брата-избранника Бодлер нашел прежде всего в Эдгаре По. Известны бодлеровские переводы, которые сделали столь много, чтобы творчество американского писателя прижилось во Франции. Именно Эдгар По побуждает Бодлера уточнить свою концепцию воображения, «королеву способностей»: «Воображение — не фантазия. Оно и не чувствительность, хотя трудно найти человека с воображением, который бы не был одновременно чувствительным. Воображение — почти божественная способность, которая с самого начала, вне философских методов, улавливает интимные и тайные связи вещей, соответствия и аналогии». По оказал большое воздействие и на Вилье де Лиль-Адана, Малларме, Валери и даже на Клоделя, пропевшего хвалу «Эврике» в момент, когда занимался созданием «Пяти больших од» и «Поэтического искусства».
Во Франции Нерваль является, бесспорно, тем, кто вместе с Бодлером далеко продвинулся в ощущении того, чем станет символизм. Как писал об этом Гаэтан Пикон, «Нерваль — единственный поэт-романтик, который жил исключительно и неукоснительно тем, что вся эпоха ощущала рассеянно и беспорядочно. (…) Порвав с преобладанием романтического письма, он решительно направил поэзию по тому пути, который ведет от Бодлера к Малларме». Его стиль незаметно порывает с реальностью ради мира мечты, и сам он представляет свою новеллу «Аврелия» как «орошение жизни мечтой». Двенадцать сонетов, собранных в конце сборника новелл «Дочери огня» под заглавием «Химеры», концентрируют поэтический опыт Нерваля. Цикл открывается тревожной прелюдией «El Desdichado», поэтическим отчетом об орфическом поиске, и завершается нескончаемым гимном пифагорейской мудрости, «Золочеными стихами».
Невозможно представить интеллектуальный климат символизма, если не вспомнить идеализм Карлейля, принадлежностью которого, как поясняет Тэн, является «видение во всех вещах двойного смысла»; или пессимизм Шопенгауэра, раскрывающего мрачную силу Воли лишь для того, чтобы побудить нас избавиться от нее; или гартмановскую «Философию бессознательного», которая, будучи переведена на французский в 1877 г., окажет воздействие, в частности, на Лафорга; и особенно «мир невиданных возможностей», открытый Рихардом Вагнером: для него цель искусства — в постижении реальности, спящей в глубинах природы и человеческой души.
Обзор французского символизма
Верлен, Рембо, Шарль Кро, Тристан Корбьер, а также Жермен Нуво являются предшественниками символизма. Но напрасно было бы возводить глухую перегородку: Малларме публикуется вначале в «Современном Парнасе», Рембо отсылает свои стихи Банвилю, Верлен посещает поэтов-«художников». Были также и «парнасцы» символизма, как Анри де Ренье. Более того, необходимо ясно осознавать, что в эпоху символизма писатель, который никогда и не мечтал им стать, мог обнаружить, что его все-таки причислили к этому движению, иногда и помимо его воли. Если Малларме и даже Верлен несколько раз давали себя провести, что же говорить о Рембо, который тогда находился в Африке и не знал, какую судьбу уготовил его творениям литературный мир Парижа.
1886 год уже уверенно можно назвать отправным пунктом. Это год, когда «Озарения» и «Сезон в аду» опубликованы в «Вог». Это год, когда Мореас, который уже в статье прошлого года требовал для «так называемых декадентов» наименования «символисты», печатает свой «Манифест символизма». Фактически в этом году не было создано никакой школы и не возникло никакого осознания необходимости школы. Группировки были весьма различными, включали старших (Самен, Мореас, Кардонель, Ренье), верленианцев (Дюплесси, Тайад, Эрнест Рено), вагнерианцев (Визева, Эдуар Дюжарден), «кондорсеанцев» (Рене Гиль, Стюарт Мерриль, Кийяр, Микаэль). Лозунгом дня было «сбросить обветшалое», но то же самое можно прочитать в газете под названием «Декадент», в июньском номере которого предрекалось будущее «декадизму». Первой коллективной акцией была сюита из восьми сонетов Вагнеру, появившихся в январском выпуске «Ревю вагнерьен» за 1886 г., среди которых на видном месте помещались «Парсифаль» Верлена и «Посвящение» Малларме.
1887 год будет скорее годом формирования символистского осознания. Если Визева в своей статье «Символизм г-на Малларме» утверждал, что не слишком хорошо уяснил значение символа, то Метерлинк — один из «бельгийцев из Гента», весьма заметным образом способствовавших оформлению этой доктрины, — объяснял в статье в «Современном искусстве» 24 апреля 1887 г., что современный символ есть перевернутый символ классический. Вместо того чтобы идти от абстрактного к конкретному (Венера, воплощенная в статуе, представляет любовь), он движется от конкретного к абстрактному, «от вещи видимой, слышимой, ощущаемой, осязаемой, пробуемой на вкус к тому, чтобы породить впечатление об идее». В итоге Малларме признавался Метерлинком «настоящим мэтром символизма во Франции».