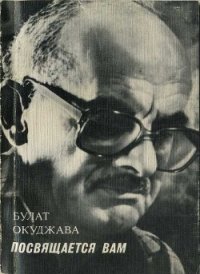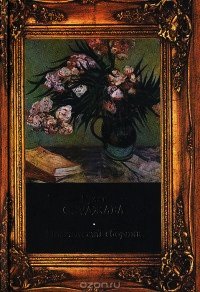Красные бокалы. Булат Окуджава и другие - Сарнов Бенедикт Михайлович (книги бесплатно .TXT) 📗
Но весь худсовет стеной встал против этого чухраевского замысла. Все члены совета – кто «страха ради иудейска», а кто искренне желая Чухраю добра – советовали ему отказаться от его безумной затеи, заведомо обреченной на неудачу. Говорили, что тут – тупик, из которого нет выхода. Если поручик будет у него отрицательным, фильм выйдет плоским, антихудожественным. А если он будет вызывать симпатию зрителя, фильм окажется идейно порочным.
Дело опять решил Пырьев. Подводя итог этому бурному обсуждению, он жестко сказал:
– Всё! Вопрос решен! Чухрай будет ставить «Сорок первого»!
Но, как только был показан первый отснятый материал, против Чухрая взъярился и Пырьев.
– Ты снимал по сценарию? – грозно спросил он.
Чухрай честно сказал, что нет, снимал как хотел, как считал нужным в соответствии со своим художественным замыслом.
Отклоняться от сценария было строжайше запрещено: ведь он был утвержден. И когда Чухрай признался, что нарушил этот запрет, Пырьев топал ногами и орал на него:
– Я тебя вызвал с Украины, я взял на себя ответственность, поручил тебе сложный фильм, лучшие люди кинематографа утвердили тебе сценарий. А ты, мать-перемать, уезжаешь в пустыню и снимаешь не по сценарию? Вон из кабинета!
Чухрай сказал:
– Не уйду, пока вы не посмотрите материал.
– Ну ты упрямый хохол…
Но отснятый материал все-таки посмотрел. А посмотрев, молча обнял Григория, поцеловал, затащил в свой кабинет, открыл ящик стола и достал оттуда сложенную вчетверо бумажку:
– На! Храни как документ величайшей человеческой подлости.
Выйдя из кабинета, ничего не понимающий Чухрай развернул бумажку и прочел: «Под этой грязной белогвардейской стряпней я не поставлю своего честного имени. Г. Колтунов».
Григорий Колтунов был автором того самого сценария, с которым Чухрай, снимая фильм, не пожелал считаться.
Выслушав этот рассказ (там были и другие, еще более впечатляющие подробности), я окончательно уверился, что Чухрай (Гришка, как любовно называл его Мандель) – наш человек.
Еще больше укрепился я в этой своей уверенности,
когда в другом нашем разговоре Чухрай – на этот раз тоже по моей просьбе – подробно рассказал, как он боролся за то, чтобы первый приз на московском кинофестивале был присужден фильму Федерико Феллини «Восемь с половиной».
О том, что вокруг этого идет яростная борьба, я знал. Но – издали. В основном от Эмки, который ежедневно доносил до нас вести с поля сражения.
Однажды он при этом обмолвился, что самому Чухраю фильм Феллини не больно нравится, но, поскольку он на десять голов выше всех других, представленных на премию, не удостоить его высшей награды было бы позором. Это сообщение не слишком расположило меня тогда к Чухраю. Но я подумал, что Эмка тут необъективен: ярый антимодернист, он, быть может, отчасти приписал Чухраю свое отношение к не укладывающемуся в его эстетические категории феллиниевскому фильму.
В моем разговоре с Чухраем сразу выяснилось, что все именно так и было: Феллини и тогда уже был для него звездой первой величины, режиссером номер один в мировом кинематографе, а «Восемь с половиной» он считал великим фильмом.
Чухрай на том фестивале был председателем жюри, и, если бы не он, не его твердая позиция, Феллини ни за что не удостоился бы первого приза. Начальство в самой категорической форме требовало, чтобы первый приз был присужден советскому режиссеру. В качестве лауреата предлагался ленинградский режиссер – не помню его фамилии, но название фильма помню очень хорошо. Он назывался «Знакомьтесь, Балуев!».
Запомнил я его потому, что у нас на «Мосфильме» тогда рассказывали, что Стэнли Крамер (он был одним из членов жюри) об этом предложении высказался так:
– Я, – будто бы сказал он, – считал, что сделал в жизни все что мог и дальнейшее мое существование уже не имеет смысла. Но теперь благодаря московскому фестивалю моя жизнь вновь обрела смысл. Теперь я твердо знаю, что остаток жизни посвящу одной цели: борьбе с такими фильмами, как «Знакомьтесь, Балуев!».
Скрипя зубами кинематографическое начальство отступилось от этого своего плана. Но при том непременном условии, что первый приз получит какой-нибудь другой советский режиссер. Неважно какой. Важно, чтобы он был советский.
Но об этом не могло быть и речи. Фильм Феллини так разительно отличался от всех других, выставленных на премию, что сама мысль о том, чтобы присудить первый приз кому-нибудь другому, казалась нелепой.
Один из членов жюри сравнил его с самолетом, а все другие фильмы, которые выставлялись на премию, с телегами.
Московский фестиваль считался тогда престижным, и на него съезжались звезды мирового кино: Ив Монтан и Симона Синьоре, Джина Лоллобриджида и Элизабет Тейлор, Николь Курсель и Марина Влади. Приезжали не только знаменитые актеры, но и виднейшие режиссеры мира: Джузеппе де Сантис, Стэнли Крамер, Радж Капур…
И на этот раз тоже в жюри входили актеры и режиссеры с мировым именем. И все они, при разном отношении к фильму Феллини, говорили, что альтернативы этому фильму на фестивале нет.
На этом настаивали Жан Маре и тот же Стэнли Крамер.
Крамер, с усмешкой вспомнил Чухрай, высказался так:
– Я не думаю, что «Восемь с половиной» – лучший фильм Федерико Феллини, но это лучший фильм фестиваля. Я не хочу выяснять, почему не все хотят это признать, но, господа, я мужчина и каждый день вынужден бриться. При этом я смотрю в зеркало. Так вот, чтобы мне не было стыдно смотреть на свою рожу, я хочу заявить: меня не было на этом фестивале… Желаю вам успехов!
Поднялся и ушел.
Еще несколько зарубежных режиссеров заявили, что уезжают. Кто-то из них при этом сказал, что никогда больше не пришлет в Москву ни одного своего фильма.
Чешский режиссер Ян Прохазка говорил о фильме Феллини с восторгом, но кончил свое выступление неожиданно:
– Фильм замечательный, но голосовать за него мы не можем…
– Почему? – вскинулся кто-то из иностранных членов жюри. – Вам запретили?
Прохазка в смятении молчал. Но всем было ясно, что из ЦК идет бешеное давление не только на своих, советских, но и на членов жюри из стран соцлагеря.
И главному давлению подвергался председатель жюри – Чухрай.
В ЦК, куда его что ни день вызывали на ковер, ему было сказано, что, если первый приз фестиваля получит Феллини, это будет выстрел в самое сердце партии. И когда Чухрай сказал, что не понимает почему, беседовавший с ним высокий партийный начальник доверительно ему объяснил:
– Потому что Никита Сергеевич уснул на этом фильме.
– Что ж, – ответил на это Чухрай. – Устал, наверно. У него много другой работы.
– Ты эту демагогию брось! – возмущенный таким кощунством, заорал большой начальник. – Хватит! Будешь делать то, что тебе говорят, или положишь партийный билет!
Но и эта угроза, страшнее которой в те времена не было, не помогла.
Чухрай не подчинился приказу, и первый приз на том фестивале, несмотря ни на что, получил Феллини.
Вот и судите, мог ли я, слушая все эти чухраевские рассказы, усомниться в том, что он – свой.
Но стоило только нам от этих – тогда уже исторических – сюжетов обратиться к современности, как сразу же стало ясно: нет, все-таки не свой. Не из нашего, из другого, как принято было у нас тогда выражаться, профсоюза.
Это выяснилось сразу,
как только впервые было произнесено в тех наших разговорах имя Гайдара.
О Гайдаре и его экономической реформе Чухрай говорил не то что с неприязнью, а прямо-таки с ненавистью.
Такое отношение к гайдаровским реформам было тогда делом обычным даже в среде убежденных и горячих сторонников демократических перемен, люто ненавидящих тупую и давно обанкротившуюся, а сейчас совсем уже исчерпавшую последние свои возможности советскую экономическую систему.
На словах все мы были убежденные рыночники. Но многие при этом говорили, что к рынку надо было переходить не таким грубым рывком, как это сделал Гайдар. А некоторые даже готовы были повторять доводы ярых сторонников и защитников советской системы, упрекая Гайдара в холодности, бесчувственности, с которой он обрек миллионы стариков на голод и нищету, обесценив их последние денежные накопления, включая и так называемые гробовые, то есть отложенные на похороны.