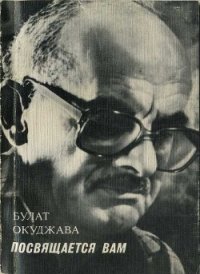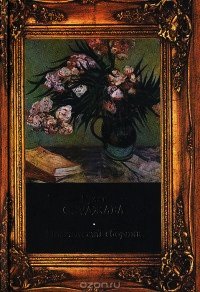Красные бокалы. Булат Окуджава и другие - Сарнов Бенедикт Михайлович (книги бесплатно .TXT) 📗
Факт состоял в том, что, уже будучи опозорен и заклеймен, он собрал нас всех не для того, чтобы покаяться, а для того, чтобы оправдаться. <…> Нам было мучительно стыдно слушать его (тоже вымученный) лепет, но он ни разу не обратился к нам как к друзьям. Он воспринимал нас как преследователей. <…>
Юлий совершенно извелся. Он сам не мог понять, приближает ли собственную (и Андрея Синявского) гибель или защищается. Напрасно ли мучит Сергея (потому что я чувствовал, что он что-то знал о Серёже и раньше) или восстанавливает попранную справедливость. Что мне кажется ясным, мы все убедились после этого судилища, что за Юлием и Андреем он не следил и к их делу был действительно непричастен. <…>
Сергей остался без работы, без друзей в Москве, которая превратилась для него в пустыню. В результате его оправданий все друзья получили дополнительную уверенность не только в правоте заявления Брегеля, но и в том, что сам Сергей этой правоты не сознает, не раскаивается и, следовательно, заслуживает своей участи. В кругах, непосредственно с Сергеем не знакомых, он превратился чуть ли не в пугало. Людям вообще легче объединяться на основе чувств отрицательных.
С. Хмельницкий уехал в Душанбе, оставив у московской интеллигенции приятное чувство, что порок наказывается при жизни, а добродетель торжествует. <…>
Итак, мы вычеркнули Сергея из нашей жизни. <…> Но он неожиданно возник на страницах романа А. Синявского «Спокойной ночи». Конечно, мы узнали его <…> И вот он сам прислал нам рукопись «Из чрева китова», которая, хотя и носит литературный характер, является человеческим документом. Мы не чувствуем себя вправе его игнорировать.
(Александр Воронель. Право быть услышанным. Континент. 1992. № 71)
Всё это Воронель написал, объясняя, почему он решил опубликовать в своем журнале ответ Сергея Хмельницкого Андрею.
Не рискну утверждать, что, если бы он этого не сделал, Хмельницкий не нашел бы какого-нибудь другого издания, в котором – раньше или позже – опубликовал бы этот свой ответ. Может быть, и нашел бы. Но менее всего можно было ожидать, что его опубликует тот самый Шурик Воронель, который, сидя рядом со мной в своем «москвиче», испепелял гордо шагающего по тротуару Сергея ненавидящим взглядом.
Тем не менее сделал это именно он. И сделал на свой страх и риск, воспользовавшись (как я потом узнал) отсутствием двух членов редколлегии возглавляемого им журнала, которые, будь они поставлены им в известность, совершить этот демонстративный акт ни за что ему бы не позволили.
Совершая его, он, конечно, предвидел – не мог не предвидеть, – что за это его осудят и навсегда от него отвернутся ближайшие друзья. И все-таки он на это пошел.
Зачем? Почему?
Неужели только потому, что для его нравственного самочувствия важно было утвердить ту истину, что и самый нераскаянный грешник имеет, как это было сказано в заголовке его предисловия к той публикации, право быть услышанным?
Я готов был бы в это поверить,
если бы Сергей Хмельницкий в том своем ответе Андрею защищался, объяснялся, оправдывался, исповедовался, каялся.
Но он не оборонялся. Он – нападал.
Хотя какие-то нотки самоосуждения там у него были:
...
С чувством законной гордости должен признать, что я не ангел. У меня скверный характер, и к окружающим меня людям, среди них и очень близким, я часто отношусь несправедливо и плохо. На моей совести много грехов, среди них по крайней мере один – неискупимый. В разные годы жизни я совершил немало нелепостей и глупостей – вспоминая о некоторых сейчас, испытываю стыд, доводящий до судорог. Должен с прискорбием сознаться, что именно я познакомил когда-то А. Д. с Ю. Даниэлем (что вышло последнему боком) и с его нынешней супругой Майкой (ныне Марьей) Розановой-Кругликовой. Словом, я признаю, что число моих недостатков и слабостей, возможно, превышает среднестатистическое количество этого добра на одну человеческую душу.
(Сергей Хмельницкий. Из чрева китова // 22, 1986, № 48)
Была даже и попытка повиниться, покаяться. Но – как-то поспешно, скороговоркой, словно он понимал, что эту тему ему не обойти, но стремясь как можно скорее от нее отделаться и перейти наконец к главному:
...
За этот грех я расплачивался, расплачиваюсь и буду, конечно, расплачиваться до конца моих дней. Будь я в том году постарше, поопытней да поумнее, – меня, возможно, не так парализовала бы угроза неминуемой гибели: к несчастью, тогда я еще не знал, что смерть – не самое страшное в жизни. Теперь вот знаю – давно уже, – да изменить ничего не могу. <…>
Я купил свободу и, может быть, жизнь ценой свободы двух моих товарищей, ни в чем, конечно, не повинных. Очень, слишком, недопустимо сильно мне хотелось тогда жить.
А Кабо и Бретель были арестованы, один за другим, в 1949 году и приговорены к десяти годам каждый. На свободу они вышли только через пять лет, в счастливое раннехрущевское время. Но гораздо раньше их освобождения меня настигла репутация предателя-стукача: следователи, видать, не утаивали от подследственных моего имени. И заслуженная расплата начала настигать меня быстро и неминуемо. Она окончательно настигла меня, когда Кабо и Брегель вернулись в Москву. Вот тогда-то я в полную меру пожал плоды моего подлого малодушия и трусости. И хватит об этом. Теперь прошу внимания!
(Сергей Хмельницкий. Из чрева китова // 22, 1986, № 48)
Для чего же он просит внимания?
Что движет им? Желание спасти хоть какие-то жалкие остатки своей поруганной репутации?
Да, отчасти и это тоже.
Но это – так, между прочим. Главное же для него тут – другое:
...
Я защищаю себя от неспровоцированной клеветы, которая стала общественно-литературным явлением и, значит, вышла за рамки личных отношений. Делая это, я не только следую защитному рефлексу. Публично очернив мою скромную личность, А. Д. нарушил неписаный закон, соблюдавшийся нами (за себя я ручаюсь) долгие годы, – закон молчания о вещах, которые нас обоих совсем не красили. Тем самым он оказался вне этого закона и подпал под действие другого, который гласит: народ должен знать своих стукачей.
(Там же)
Начинает он эпически. Сдержанно, спокойно, даже как будто миролюбиво:
...
А. Д. хорошо описал появление в его, а потом и в моей жизни Элен Пельтье-Замойской. Я испытывал то же, что и он, общаясь с этим прелестным существом, попавшим в наш железный, навечно ориентированный мир как бы с другой планеты… Она была личностью, очень для нас интересной, и вместе с тем – символом иного, нам недоступного существования.
А. Д., добрый друг, познакомил меня с ней. И мы начали общаться, встречаться – чаще втроем (к А. Д. она привязалась по-женски, к тому же и университет), иногда вдвоем. А потом – через месяц с небольшим – в институте, где я учился, меня пригласили в особую комнату. И там после получасовой беседы – с выяснением обстоятельств знакомства, встреч и предмета разговора – я стал секретным сотрудником, «сексотом», или, если хотите, стукачом. С подпиской о неразглашении и договоренностью о будущих контактах.
Новая доверенная мне работа меня не слишком обеспокоила. Элен вполне лояльно относилась к советской власти. Ей нравилась Москва и нравилось учиться в университете. Держась естественно и свободно, она, умница, в разговорах контролировала себя и была по-европейски сдержанна. О политике мы вообще не говорили, и все больше о высоких материях: история, искусство, философия и историчность Иисуса Христа. Так что я имел все основания думать, что даже подробный отчет о высказываниях Элен Пельтье никак не может ей повредить. А большего, кроме отчетов, от меня и не требовали.