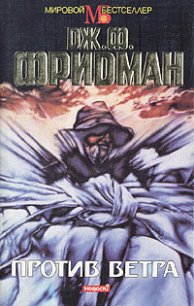УРОЖАИ И ПОСЕВЫ - Гротендик Александр (чтение книг .TXT) 📗
17. По правде сказать, я не так уж много и подробно раздумывал над гипотезами Вейля. Иная, широкая панорама уже начинала разворачиваться передо мной. Я старался уловить взглядом все, что мог, и изучить тщательно, ничего не упустив. То, что я видел перед собой, выходило далеко за пределы (предположительных) нужд доказательства, оставляя позади даже то многое, что можно было предвидеть, вооружившись оптикой этих гипотез. С появлением теорий схемы и топоса мне вдруг открылся новый, неожиданный мир. «Гипотезы», бесспорно, занимали в нем центральное положение: как столица обширной империи, где не счесть провинций. Но, как правило, между этим почтенным, великолепным городом и отдаленными областями огромной страны нет настоящей связи: дальние дороги, ненадежная почта… Прямо себе этого не говоря, я все же знал, что отныне служу великой задаче. Мне предстояло исследовать огромный, неведомый мир: изучить его географию, вплоть до самых удаленных границ, исходить все дороги; тщательно, одну за другой, описать ближайшие, наиболее доступные провинции. И все свои находки нанести на карту - как можно точнее и подробнее, до последней деревушки, до самой скромной хижины в ней.
На эту-то работу в основном и уходили мои душевные силы. То был терпеливый и долгий труд по закладке основ, который я один перед собой видел ясно, и, главное, «нутром чувствовал». Далеко опередив в этом отношении все остальные задачи, он забрал себе наиболее внушительную часть моего времени, между 1958 (когда, одна за другой,
Прогулка по творческому пути, или дитя и Мать
появились теории схем и топосов) и 1970 (годом моего ухода с математической сцены).
Впрочем, я нередко в нетерпении грыз удила, проклиная каждую задержку. Эти бесконечные задачи давили мне на плечи неотвязным, назойливым грузом. Ведь, как только по сути в них разберешься, новизна пропадает, а то, что остается на ее месте, льнет к рукам бытовой рутиной. И тогда - какой уж там бросок в неизвестное! Так, хлопоты по хозяйству… Вот и приходилось постоянно сдерживать в себе стремление пуститься вскачь - инстинкт первооткрывателя, отправляющегося на поиски никому не ведомых, безымянных миров (а они все звали и звали меня, заглядывали в глаза, просили назвать по имени…). Эта тяга, которой я мог давать волю не иначе, как изредка и почти украдкой, все эти годы получала лишь скудное удовлетворение.
И все же, по сути я знал, что передаваемая ей доля энергии - ворованная (иначе не скажешь) у моих «задач» интендантского толка - обретала по дороге иную, редкую, изысканную структуру. И не мудрено, ведь ее путь лежал через творчество. В чем его и искать, как не в напряженном внимании, с которым вслушиваешься в голоса вещей, стремясь различить зов того, что просит себе плоти, чтобы появиться и жить… В темноте, среди тайных, бесформенных, влажных складок питающего лона, возможен лишь неясный намек на очертания - и неуклонная, страстная воля родиться на свет. Говоря о труде открытия, как не признать, что в этом напряженном внимании, в этой жаркой заботе и есть его главная сила. Так, проникая под слой питательной почвы, солнечное тепло торопит семена. Навстречу его ласке из земли, как некое чудо, пробиваются едва заметные ростки; созревший бутон раскрывается и видит свет дня.
Оглядываясь на свой жизненный труд как математика, я угадываю в нем действие двух сил, или стремлений - различной природы, равно глубоких. Чтобы их обозначить, я выбрал, во-первых, образ строителя, во-вторых - первопроходца, или исследователя. Поставив их рядом, я вдруг поразился, до чего оба они «мужественны», «ян», даже «мачо» ! У этих слов гордое звучание мифа, в них слышится эхо «великих событий». Несомненно, эти образы были мне навеяны остатками моего прежнего, «героического» представления о творчестве; уж оно-то в свое время было «ян» с ног до головы и выше. В таком виде они создают сильно искаженное, чтобы не сказать застывшее по стойке смирно, впе-
чатление о действительности, которая на деле гораздо проще, скромнее, подвижней, - она живая, попросту говоря.
В мужественном стремлении «строителя», которое, казалось бы, должно без устали толкать нас к новым постройкам, я различаю, однако же, страстишку домоседа, от души привязанного к какому-то одному дому. Прежде всего прочего, это его дом, то есть нечто близкое; это большое живое существо, частью которого он себя ощущает. И лишь во второй черед, по мере того как расширяется круг вещей, воспринимаемых, как близкие, здание оказывается «домом для всех». И в этом стремлении «строить дома», заняться зодчеством (как «занимаются» любовью…), есть еще, и прежде всего, нежность. Это желание прикоснуться к тем материалам, которые нужно обрабатывать один за другим - с любовной заботой, которая рождается именно от такого тесного контакта. А когда воздвигнуты стены, уложены балки и крыша на месте, приходит вкус к новой работе. Тогда, шаг за шагом обустраивая дом изнутри, чувствуешь глубокое удовлетворение, глядя, как среди спален, кладовых и гостиных устанавливается особый порядок, ровное согласие гостеприимного дома - красивого, удобного для жизни. Ведь он, тот самый дом, - тоже образ матери. Это то, что окружает и защищает нас, то, что нас укрывает от бед и ободряет. И быть может (где-то на более глубоком уровне; пускай мы в эту самую минуту строгаем балки, кладем кирпичи, чтобы на голом пустыре выросло строение), дом этот и есть то, откуда вышли мы сами, то, что в нашей незавершенности защищало и питало нас в те странные, незабываемые времена, до нашего рождения… Это тоже Лоно.
И вот образ, только что явившийся сам собою, чтобы, опрокинув тесные рамки громкого символа «первооткрыватель», передать как будто глубоко запрятанную, но обретенную вновь реальность вещей, на глазах теряет всякую «героическую» окраску. И в памяти снова всплывает все тот же архетипический образ материнства - питательной «матки», с ее тайными, неясными трудами живорождения…
Итак, я думал, будто природа этих двух стремлений совершенно различна, а они, глядишь, оказались до того похожи между собой, что я не устаю изумляться. И то и другое по сути - желание обрести контакт, и каждое из них влечет нас не далее, чем к новой встрече с Матерью. Ведь Она воплощает для нас обе стороны окружающего нас мира: как то, что нам близко, знакомо в нем, так и то, что неизвестно. Отдаться на волю любого из этих стремлений - значит вернуться
Прогулка по творческому пути, или дитя и Мать
к Матери. То есть заново соприкоснуться с тем, что нам так близко, знакомо как будто бы - ив то же время где-то совсем далеко, как темная звезда над горизонтом. Но, неведомое нам, оно все же бывает предпослано странным чувством; переживая его, мы узнаем.
Разница здесь в окраске, в том, как смешаны ингредиенты - совсем не в природе. Когда я «строю дома», преобладает знакомое, когда «исследую» - неизвестное. Эти два «способа» открытия, или, лучше сказать, две стороны одного и того же процесса, нельзя отделить друг от друга. Оба существенны; в работе они друг друга дополняют. Оглядываясь на свой математический труд, я вижу, что равновесие сил в нем подчинялось закону маятника. Первый из двух аспектов, начиная преобладать, словно уже готовился дать место второму . Но при этом совершенно ясно, что во всякую минуту присутствуют оба импульса. Когда я возвожу дома, их обустраиваю, или убираю строительный мусор, тогда я нахожусь на склоне «ян», так что «мужественная» сторона творчества задает тон. Когда же я, пробираясь вперед на ощупь, исследую бесформенное, неуловимое, еще безымянное, тогда я на «инь», женском, склоне моего бытия.
Я совсем не намерен преуменьшать здесь значение того или иного аспекта своей природы, и уж тем более отрицать его. Зачем, ведь каждый из них по-своему важен: «мужской», который строит и порождает, и «женский», который, зачиная, хранит в себе медленное, скрытое от глаз вынашивание плода. Я «есмь» и то, и другое - «ян» и «инь», мужчина и женщина. Но я знаю и то, что самая тонкая, самая изысканная сущность творчества обретается все же на склоне «инь», женском - пускай он скромен, небросок и зачастую непригляден на вид.