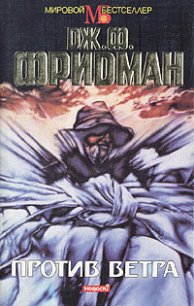УРОЖАИ И ПОСЕВЫ - Гротендик Александр (чтение книг .TXT) 📗
Прогулка по творческому пути, или дитя и Мать
ни дало промышленности (даже той, которую называют «мирной»), это далеко не всегда к лучшему…
Конечно, для моей же собственной пользы и для удобства читателя-математика было бы разумней соотнести мой труд с маяками в истории самой математики, чем отправляться искать аналогий на стороне. Я обдумал это в последние несколько дней, в рамках моего довольно туманного представления об истории науки . Во время «Прогулки» мне уже как-то случилось вызвать в памяти «линию» математиков, сходных по роду темперамента, к какому и я себя отношу. Вот она: Галуа, Риман, Гильберт. Будь я более осведомлен в истории моего искусства, я бы, возможно, сумел продолжить эту линию глубже в прошлое, или, скажем, включить в нее еще несколько имен, теперь мне известных лишь понаслышке. Поразительно то, что я не могу припомнить ни из каких источников, даже из разговоров друзей или коллег, лучше меня разбиравшихся в истории, сведений о каком-нибудь математике, кроме меня, который привнес бы в науку множество новых идей, не разрозненных, но собравшихся в единое видение (как это вышло с Ньютоном и Эйнштейном в физике и космологии, а в биологии - с Пастером и Дарвином). Я могу указать лишь два «момента» в истории математики, связанные с появлением нового видения широкого размаха. Один из них - само рождение математики, как науки в сегодняшнем понимании этого слова: 2500 лет назад, в Древней Греции. Другой - возникновение анализа бесконечно малых и интегрирования, в семнадцатом столетии; эпоха, отмеченная именами Ньютона, Лейбница, Декарта и других. Насколько мне известно, в обоих случаях новое видение явилось продуктом не индивидуального, но коллективного труда математиков, составлявших эпоху.
Конечно, от Пифагора и Евклида до начала семнадцатого столетия у математики было довольно времени, чтобы сменить облик - да и потом, между «Исчислением бесконечно малых», изобретенным математиками в семнадцатом веке, и серединой теперешнего двадцатого
утекло немало воды. Но, насколько я знаю, глубокие изменения, происшедшие в течение этих двух периодов (один сроком более чем в две тысячи лет, другой - в три столетия), ни разу не приняли формы нового видения, представленного чьим-нибудь конкретным трудом , как это было в физике и космологии, с великим синтезом, осуществленным Ньютоном, а затем Эйнштейном - два важнейших, узловых события в истории этих наук.
Похоже, что постольку, поскольку служитель нового широкого, объединяющего видения родился во мне, я оказался «единственным в своем роде» в истории математики, считая от ее начала до наших дней. Печально иметь вид человека, желающего так непозволительно выделяться на общем фоне! Все же я, кажется, разглядел издалека, к своему облегчению, возможного (и спасительного!) как будто бы брата. Мне недавно уже случилось его упомянуть, первым в ряду моих «братьев по темпераменту»; это Эварист Галуа. В его короткой и осле-
С одной стороны, этот синтез ограничивался чем-то вроде «приведения в порядок» широкой совокупности идей и результатов, уже известных, без того, чтобы добавить к ним свои новаторские идеи. Если там была новая идея, то она заключалась в строгом математическом определении понятия «структуры», явившейся бесценною путеводною нитью для всей деятельности союза. Но эта идея, мне кажется, подобна скорее идее толкового и не без воображения лексикографа, чем одной из основ обновления языка, дающей свежее представление о реальности (в данном случае, математической).
С другой стороны, считая с пятидесятых годов, идея структуры оказалась в хвосте событий, с неожиданным наплывом «категорных» методов в некоторые из наиболее динамичных разделов математики, именно топологию и алгебраическую геометрию. (Так, понятие «топоса» отказалось влезть в «мешок Бурбаки», не то он бы расползся по швам!) Решив для себя, со всей ответственностью, разумеется, не ввязываться в это дело, Бурбаки тем самым отреклись от своего исходного намерения, состоявшего в том, чтобы обеспечить единые основы и единый язык для современной математики в целом.
Они, напротив, закрепили на месте язык, и в то же время определенный стиль изложения и подхода к математике. Этот стиль появился, как отражение (весьма неполное) некоего духа, когда-то живого и впрямую унаследованного от Гильберта. В течение пятидесятых и шестидесятых годов этот стиль, к лучшему то или к худшему (вот это скорее), сделался в конце концов обязательным. За двадцать лет он стал жестким каноном чисто наружной, парадной «строгости»; дух же, его некогда оживлявший, словно бы исчез безвозвратно.
Прогулка по творческому пути, или дитя и Мать
пительной жизни *5 я, как мне представляется, различаю признаки зарождения большого видения, воистину «союза числа и величины» в новом геометрическом контексте. Я упоминал уже на страницах «РС» , как, два года назад, у меня внезапно возникло это ощущение, что в математической работе, в тот момент почти безраздельно господствовавшей в моем воображении, я занят не чем иным, как «возрождением наследия Галуа». Это ощущение, с тех пор редко возобновлявшееся, все же молча зрело во мне, не упуская времени. В последние три недели, когда я обдумывал завершенный труд, оно заведомо усилилось. Нить преемственности самой непосредственной, ведущая к математикам прошлого (мне кажется, сейчас я научился ее видеть), связывает меня именно с Эваристом Галуа. Справедливо или нет, но мне кажется, что видение, которое я развил в течение пятнадцати лет своей жизни, и которое все еще зреет и набирает краски во мне вот уже шестнадцать лет, истекших со дня моего ухода - что это самое видение не мог бы не открыть Галуа , забредя в те же, что и я, математические владения, если бы преждевременная смерть грубо не оборвала его великолепный разбег.
Есть, конечно, еще и другая вещь, которая прибавляет силы этому ощущению «родства по существу» - родства, которое не сводится ни к одному лишь «математическому темпераменту», ни к какой-либо иной из сторон нашей работы. В нашей жизни, его и моей, я чувствую общность судеб. Конечно, Галуа нелепо погиб двадцати одного года от роду, в то время как мне уже под шестьдесят, и я определенно готов тянуть и дальше. При всем том, однако, Эварист Галуа при жизни оставался, точь-в-точь как я полтора века спустя, второстепенной фигурой в официальном математическом мире. Что до Галуа, тут поверхностному наблюдателю может показаться, что эта второстепенность «случайна», что у него просто не было времени своими трудами и новаторскими идеями заставить себя признать. В моем случае, моя второстепенность
в течение первых трех лет моей жизни как математика объясняется моим неведением (быть может, нарочитым…) о самом существовании мира математиков, с которым я потом столкнулся. И с тех пор, как я ушел с математической сцены, вот уже шестнадцать лет тому, она - последствие сознательного выбора. Того самого, который, без сомнения, и повлек за собой наказание: «согласной волею и в едином порыве» стереть всякие следы моего имени в математике, и с ними то видение, чьим служителем я себя сделал.
Но за случайными расхождениями я все же различаю общую причину этой «второстепенности», на мой взгляд, существенную. Я вижу ее не в исторических обстоятельствах, и не в особенностях «темперамента», или «характера» (эти свойства, конечно, свои у каждого из нас, ведь мы разные люди), и уж тем более не на уровне одаренности (почти сверхъестественной в случае Галуа, сравнительно скромной - в моем). Если и есть оно, это родство, я вижу его на более приземленном уровне - совсем элементарном.
Я испытывал подобное, редкое, чувство родства несколько раз в своей жизни. Именно оно «сближает» меня еще с одним математиком, бывшим моим старшим коллегой: Клодом Шевалле . Связь, о которой я хотел сказать, это что-то вроде «наивности», или «невинности», о которой здесь уже заходила речь. Она выражается в естественной склонности (часто не особенно ценимой окружающими) смотреть на вещи своими собственными глазами, а не сквозь патентованные очки, любезно предложенные какой-нибудь, широкой или не очень, группой людей, по той или иной причине управляющих мнениями.