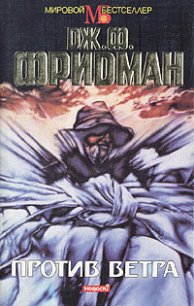УРОЖАИ И ПОСЕВЫ - Гротендик Александр (чтение книг .TXT) 📗
Самодовольство и обновление
особенно занимает; я собираюсь разрабатывать ее в ближайшие годы. Я бы отнес ее как раз к типу «математической мечты»; работа над ней сулит предоставить новый подход к пресловутой «мечте о мотивах». Составляя «Набросок», я вспомнил о шести месяцах в 1981 г. (с января по июнь), которые я провел в размышлении над этой замечательной темой. За последние четырнадцать лет это был единственный случай, когда я думал о математике так много времени кряду, без перерыва. «Долгий поход сквозь теорию Галуа» - так я назвал свои записки из этого периода. Мало-помалу я стал догадываться о том, что ландшафты и перспективы, то и дело мелькавшие передо мною в мечтах вот уже несколько лет, не мне первому являлись из темноты. Другой математик - более века тому назад - томился по ним же, вглядываясь в туман. Мои грезы, в конце концов получившие имя «анабелевой алгебраической геометрии» - не что иное, как продолжение, «логическое завершение теории Галуа и, без сомнения, в духе Галуа».
Когда мне открылась эта удивительная преемственность в математике (в самый момент появления двух предыдущих строк, взятых из текста «Наброска»), я ощутил прилив радости. Это живое тепло, не рассеявшееся и по сей день, вознаграждает меня за долгие годы уединенного труда. Оно пришло вдруг, я совсем не ждал его - как и той холодности, с которой двое-трое моих коллег (и давних друзей; один из них был когда-то моим учеником) позднее приняли мой пылкий рассказ… Я говорил с ними о своей новой работе, о дороге, полной находок, о горизонтах впереди; мое сердце переполняла горячая радость - и я мечтал ее с кем-нибудь разделить.
Но мне следовало помнить о том, что наследство Галуа отмечено печатью его творческого одиночества. Сегодня вступить на путь Галуа - значит, решиться разделить его судьбу. Пожалуй, времена меняются не так уж быстро, как мы привыкли считать! А впрочем, эта «угроза» меня не страшит. Мне может причинить боль подчеркнутое безразличие или пренебрежение - в особенности, когда оно исходит от дорогих мне людей. Но мысль об одиночестве, как в математике, так и в жизни вообще, никогда не пугала меня. Одиночество мне вовсе не враг; напротив, я не знаю друга верней. Не случайно, едва расставшись с ним, я всей душой стремлюсь к нему вернуться!
8. Но вернемся к мечте и к тому соглашению, что упрямо ставит ее вне закона на территории Математики вот уже которое тысячеле
тие. Оно представляет собой, пожалуй, самую застарелую из всех догм, определяющих (подчас неявно) наше восприятие научных реалий. Дескать, вот это - действительно математика; а это уже нет, помилуйте. Для того чтобы простые, ребенку понятные вещи, на которые натыкаешься буквально на каждом шагу - такие, как группа симметрии одних или топологическая форма других геометрических фигур, число «нуль», множества, - получили допуск в святилище науки, потребовалась, опять-таки, не одна тысяча лет. Когда я говорю студентам о топологии сферы и о том, что получается, если к сфере «приделать ручки», то первым делом неизменно слышу в ответ: «Но… разве это математика?!» То, что не удивило бы и малого ребенка, приводит студентов университета в полное замешательство: ведь они так хорошо усвоили, что относится к математике, а что - нет. В самом деле, о чем тут спорить; математика - это теорема Пифагора, высоты треугольника и многочлены второй степени… Эти студенты не глупее нас с вами: они рассуждают так же, как рассуждали всегда, вплоть до сего дня, все математики во всем мире - если не считать Пифагора, Римана и, может быть, еще пяти-шести человек. Даже Пуанкаре, а это вам не первый встречный, в один прекрасный день, используя самые что ни на есть научные философские приемы, доказал, что бесконечные множества не имеют никакого отношения к математике! Несомненно, были времена, когда считалось, что треугольники и квадраты - тоже не математика. Так, фигурки; пускай мальчишки да гончарных дел мастера рисуют их на песке, чертят на глиняных вазах… Не извольте смешивать игрушки с серьезной наукой.
Когда скопившееся в голове мертвое «знание» начинает стеснять дыхание рассудка, он становится инертным. Конечно, этим страдают не одни только математики. Здесь я немного отклоняюсь от темы запрета, наложенного на мечту в математике - и тем самым на все, что выходит за рамки инструкций, приложенных к готовому продукту, «научному результату». Того немногого, что мне известно о других естественных науках, достаточно, чтобы получить представление о бедах, которые, бывало, навлекал на них подобный запрет. По его вине науки становились бесплодными - или, в лучшем случае, едва ползли вперед в черепашьем галопе. Так было, например, в средние века (если только речь шла не о том, чтобы поживиться за счет буквы Святого Писания; богословие как раз процветало). А ведь я знаю наверное, что
Самодовольство и обновление
все открытия, по большому счету, делаются одинаково, будь то в математике или в любой другой науке, в ремесле или в жизни вообще. К чему бы на свете ни влекло нас, умом или телом - там, на глубине, источник знаний один и тот же, и никакая другая вода нашей жажды не утолит. Изгнать мечту - значит перекрыть источник, сослать его в область суеверий, обречь на полупризрачное существование.
И еще кое-что мне известно по собственному опыту, который, начиная с моих самых первых, юношеских увлечений математикой, никогда меня не обманывал. Когда дорога выводит тебя на высокое место, так что перед глазами разворачивается новое видение, и взгляд уже охватывает обширные математические пейзажи, тогда тебе легко наметить дальнейший путь. И это восхождение, эта проясняющаяся перспектива, это понимание, приходящее шаг за шагом, всегда предшествует доказательству. Подсказывая методы доказательства, оно в то же время придает ему смысл. Когда ты достиг понимания в своем вопросе (серьезном или незначительном, не так уж важно) в общих, существенных чертах, - доказательство само летит к тебе в руки, как созревший плод с яблони. Если же ты сорвешь его с дерева раньше срока, еще зеленым, то само познание оставит привкус неудовлетворенности; пускай ты вкусил плода, но жажда не отпускает. Два-три раза, в своих математических занятиях, я решался, за неимением лучшего, сорвать плод, не дождавшись, когда он созреет. Не то, чтобы я сейчас в этом раскаивался. Но лучшее из того, что мне удалось сделать в математике, то, над чем я трудился с настоящей страстью, пришло ко мне по своей воле - я не тянул его силой. Если математика всегда приносила мне необыкновенную радость, если моя тяга к ней не остыла в мои зрелые годы, то это не потому, что мне нравится упражнять мускулы, обрывая с деревьев крепко сидящие на ветках зеленые плоды. Нет; я слышу в ней неисчерпаемую тайну, безупречную гармонию духа, готовую открыться любящему взгляду. Эта немыслимая глубина влечет меня к математике, и от предчувствия красоты у меня всякий раз перехватывает дыхание.
9. Кажется, пришло время поговорить о моих взаимоотношениях с миром математиков. (Не путать с «миром математики»; это - совсем другая история. С этой планетой, и с ее странными обитателями - математическими объектами, я подружился еще с юных лет. Подружился задолго до того, как узнал, что где-то на Земле, в своей собственной
«научной среде», живут такие люди - математики.) И в самом деле, это целый сложный мир: научные общества, газеты, встречи, коллоквиумы, конгрессы… В нем - свои примадонны и поденщики, дворяне и крепостные (кто на барщине, а кто - на оброке), те, что бьются денно и нощно над статьями и диссертациями. Впрочем, даже в «низших слоях» населения есть такие, кому работа в радость: у них много идей, которые они сами в силах осуществить. У них есть опыт настоящего творчества - и, неизбежно, опыт двери, захлопнутой перед носом. Что делать, ведь их превосходительства у власти (а власть немалая: дать или не дать добро на публикацию работы!) не любят назойливых оборванцев… К тому же, они, эти важные господа, вечно спешат.
Факт существования мира математиков я открыл для себя сразу по приезде в Париж. Мне было двадцать лет; я привез с собой в столицу диплом Университета Монпелье и рукопись довольно внушительного вида (немудрено, ведь я трудился над ней три года). Я нарочно писал ее мелким, убористым почерком, не оставляя полей: бумага стоила дорого! «Результаты» моего уединенного труда, как я узнал немного позднее, давно были известны всему миру под названием «теория меры», или «интеграл Лебега». До самого дня своего приезда в Париж я, кажется, был уверен, что только я один на белом свете и занимаюсь математикой. То есть, я был, по моим представлениям, единственным математиком. (Быть математиком и «делать математику» для меня, пожалуй, и по сей день - одно и то же.) Я определил на свой лад «измеримые» множества, со сходимостью почти везде (не то, чтобы мне к тому моменту приходилось сталкиваться с «неизмеримыми»…), и достаточно поиграл с ними - но не знал, что такое топологическое пространство. Помню, как-то мне попалась под руку маленькая брошюрка из серии «Научно-технической хроники»; написал ее, кажется, какой-то Апперт. Я прочел ее от корки до корки - и был несколько сбит с толку наличием доброй дюжины отнюдь не эквивалентных понятий «абстрактного пространства» и компактности. Наконец, я ни разу не встречал, по крайней мере в математическом контексте, таких странных (а то и вовсе невразумительных, как обрывки варварской речи) терминов, как «группа», «поле», «кольцо», «модуль», «комплекс», «гомология»… Все это вдруг, без предупреждения, разом обрушилось на мою бедную голову. Жестокий удар, нельзя не признать!