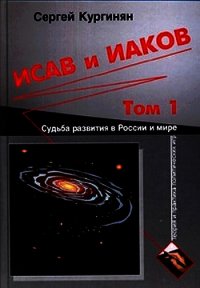Исав и Иаков: Судьба развития в России и мире. Том 2 - Кургинян Сергей Ервандович (книги без регистрации полные версии .TXT) 📗
Но даже Поппер — посредственность, отрабатывающая заказ, — столкнувшись с феноменом Маркса, завибрировал. А также испугался своих вибраций. И начал истошно вопить о том, что у Маркса есть амбиции светского пророка. И что это ужасно плохо. Почему это ужасно плохо? Читатель, спроси у Поппера и его поклонников. Я не знаю, почему это плохо. Но я знаю, что это действительно так. Что Маркс не чужд пророческих амбиций. И что возможность выявить действительную метафизичность Маркса (а не навязать Марксу чужую ему неявную метафизику) состоит как раз в том, что пророческие амбиции Маркса очевидны. А где пророческие амбиции, там и мистериальность. А где мистериальность, там и метафизичность.
Какова же мистериальность марксизма? Марксизма вообще и политического марксизма прежде всего, ибо оторвать марксизм от политики нельзя, в чем и состоит, по-видимому, особая притягательность марксизма даже для тех, кто не разделяет его отдельные положения.
Политическая мистерия, сочиненная Марксом, такова.
Есть исторический дух. Или — Дух истории.
Дух истории не может напрямую разговаривать с субстанцией. Ему нужен субъект. Для Маркса это социальный субъект. И Маркс называет социальный субъект, способный выйти на рандеву с Духом истории, классом.
Итак, есть Дух и есть класс, являющийся Избранником этого Духа. Класс-избранник — это передовой класс.
Кому-то не нравится классовый подход. Замените его субъектным и назовите другие субъекты, способные выйти на рандеву с Духом истории. Но, в принципе, важно не то, как назвать этот субъект (класс, элита, корпорация, каста). Важна сама логика отношений. Она описана Марксом блистательно.
Дух истории соединяется с Избранником, превращая этого Избранника в субъект, «класс для других». Только это соединение Духа с Избранником может превратить «класс для себя» в «класс для других».
Кстати, это разграничение между «классом для себя» и «классом для других» имеет для нас сейчас принципиальное значение. Ибо нам надо понять, (а) является ли российское правящее сословие классом, (б) является ли оно капиталистическим классом и (в) является ли оно «классом для себя» или «классом для других». Последнее важнее всего. И нет для нас сейчас более важной конкретной политической задачи, чем внятность в понимании этих самых (а), (б) и (в). Они-то и определяют все. Концепцию развития в том числе. Но дорога к этой внятности перекрыта пренебрежительным отношением к Марксу.
Итак, «класс для себя» — это мертвый реакционный класс, который не может соединиться с Духом истории. Дух истории говорит такому классу «адью!» — и класс корчится, не понимая даже, что с ним происходит. Ибо, говоря такое «адью!», Дух истории лишает класс способности мыслить, разрушает классовое сознание и самосознание.
Одновременно с мертвым «классом для себя» на арене истории действует «класс для других». Этот класс открыт Духу истории. Он как невеста для этого жениха. Вбирая в себя историческое, «класс для других» становится субъектом, классом-лидером.
На этом завершается первая фаза Марксовой мистерии. Но именно первая фаза, а не вся мистерия как таковая.
Во второй фазе класс-субъект обращается к субстанции под названием «народ».
Субстанция может быть исторически впечатлительной. И тогда она является историческим народом. Но она может быть лишена исторической впечатлительности. И тогда она спящий народ, а то и народ-мертвец и так далее.
Предположим, что субстанция исторически впечатлительна. Тогда, откликнувшись на историческое, привнесенное классом-лидером, исторический народ создает Форму — новое, более совершенное государство. Действующими лицами мистерии являются трое — исторический дух, передовой класс и народ. Эта троица создает государство.
Вторая фаза мистерии заканчивается. Начинается третья фаза. Передовое государство, уничтожая или поглощая другие, побуждает их к исторической состоятельности как единственной альтернативе исчезновению. Таков, например, смысл наполеоновской Франции. Такова классическая, между прочим, очень глубокая марксистская схема. И никто пока что не предложил схемы (теории, модели, доктрины) более глубокой, чем эта.
Исторический дух, соединяясь с классом-лидером, создает субъект.
Субъект движется к субстанции («народу»), которая может откликнуться на его вибрации (исторический народ), а может и не откликнуться (неисторический народ).
Откликнувшаяся на вибрации субстанция создает Форму (государство). Совершенная Форма через поедание несовершенных форм побуждает несовершенные формы к совершенствованию.
Формы, покинутые историческим духом и недоступные для субъекта, подвергнуты тлению (распаду). Субстанция, лишенная субъектных вибраций, истлевая, разрушает мертвую форму. Истлевшая форма или рушится сама за счет истлевания как такового, или разрушается, сталкиваясь с формами неистлевшими, живыми, прочными, более совершенными.
Что же нового, причем не укладывающегося в описанную схему, видится Марксу, предощущается им?
Превращение… С классом соединяется не исторический дух, а его антагонист. Что за антагонист? Откуда вообще может вынырнуть какой-то антагонист? Марксу неясно, но он чувствует, что это возможно. С каким классом соединится вынырнувший антагонист? Тоже неясно. Видимо, с уходящим. Маркс не дает ответов. Он в ужасе глядит на то, как предощущаемые им возможности съедают его теорию.
Но Маркс не был бы Марксом, если бы теоретическое (а также метафизическое) не осмысливалось бы им под политическим углом зрения.
Субстанция становится ареной борьбы двух классов, наделенных равномощными духами разного качества. Один дух — исторический (протагонист). Другой дух… Марксу неясно, что за дух, откуда может он появиться. Но он зачем-то «разминает» такой, находящийся за рамками его теории, парадоксальный сценарий.
В этом сценарии у субстанции появляется новая роль. Она может завибрировать в ответ на историческую энергетику субъекта. Она может тупо отвергнуть любые вибрации и истлеть. И, наконец, она может завибрировать, откликаясь на мессидж антисубъекта. А раз так, то субстанция судьбоносна, она может быть ареной борьбы субъекта и антисубъекта. Одно дело, если у субстанции две возможности — принять благо или мирно истлеть. Другое дело, если субстанция может принять и не благо, а нечто альтернативное, но не обнуляющее субстанциональный потенциал. Она может это принять, а может этому другому и воспротивиться.
Понятно же, что в этом случае ее роль намного важнее, чем в случае, если, не приняв благо истории, она всего лишь истлевает. И Маркс, нащупывая эту другую, неизмеримо большую важность субстанции, устремляет взгляд именно на Россию — как на ту субстанцию, от чьего выбора, видимо, зависит отпор контристорической энергетике и ее странному альтернативному Суперактору.
Маркс обладает высочайшей интуицией вообще и высочайшей интеллектуальной интуицией в частности. Он ощущает и понимает, что Россия XIX века — неистлевающая форма. Что она каким-то своим образом, не через капитализм, связана с историческим духом. Что она не Африка, не Китай, но и не Германия. Энгельс этого не понимает: раз мало капитализма — страна плохая. А Маркс тоньше, чувствительнее, у него с мессианством другие отношения. И… он иначе ненавидит капитализм, с иной остротой переживает угрозу постисторического.
Энгельсу Гегель совсем не чужд. А Маркс считает Гегеля мудрейшим и опаснейшим из врагов. Кроме того, Маркс чует, что превращенческая коллизия возымеет место в Германии как передовой стране, скрыто, но сосредоточенно враждебной Духу истории. Позже об этом напишет Томас Манн, влюбленный во все немецкое. В Марксе же нет и тени такой влюбленности, в отличие от Энгельса, который потаенно фанатично предан идее пангерманизма. Маркс читает полемику Бакунина с Энгельсом и… учит русский язык… А ну как способ, в котором исторический дух позиционирует себя в России, станет спасительным?
Маркс — враг царизма? Эка невидаль! Волга и впрямь впадает в Каспийское море… Маркс, конечно же, задан в своем отношении к России революционной обязаловкой своего времени: «Царизм — душитель народов и революции, царизм — обитель феодальной реакции и так далее». Но Маркс этим задан на 75–80 %. А Энгельс — на 120 %. Вот в чем разница. И это разница между гением и начетчиком.