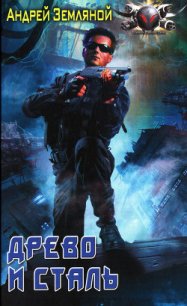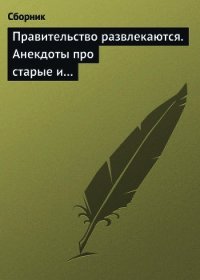Новые и старые войны: организованное насилие в глобальную эпоху - Калдор Мэри (книга бесплатный формат .txt) 📗
Некоторые описания звучат сегодня пугающе знакомо:
Фактически сербская общественность пережила виртуальную войну задолго до начала реальной — виртуальную войну, мешавшую отличать истину от вымысла, так что война стала неким континуумом, где в один и тот же феномен слагались битва на Косовом поле 1389 года, Вторая мировая война и война в Боснии. Дэвид Рифф описывает обычную практику, когда солдаты из боснийских сербов, целый день обстреливавшие Сараево с близлежащих холмов, звонили потом в город своим друзьям-мусульманам. Из-за психологического диссонанса, производимого этой виртуальной реальностью, такое, выходившее за привычные рамки, противоречивое поведение обладало для солдат абсолютным смыслом. Они стреляли не по своим личным друзьям, а по туркам. «Еще до конца лета, — говорил Риффу один из солдат,— мы выгоним турецкую армию из города. Точно так же, как они выгнали нас с Косова поля в 1389 году. Там было начало господства турок на наших землях. Здесь будет его конец, после всех этих жестоких столетий... Мы, сербы, спасаем Европу, пусть даже Европа и не ценит наших усилий»7.
«Новый национализм», реваншистский, рядящийся в побитую молью имперскую тогу, становится тем опаснее, чем сильнее сужается в атмосфере нагнетаемой вражды пространство гражданского активизма. «Космополитическая» альтернатива, которую предлагает Калдор, строится на двух принципах, военном и политическом:
1. Минимальное применение силы. Проблема использования международных сил связана с боязнью «занять сторону»8, а главным образом — с боязнью потерь. Западные страны, вступившие в «постгероическую эпоху» 9, стремятся минимизировать потери. Сохранение жизней своих солдат становится приоритетом, определяющим тактику: использование бомбардировщиков, беспилотников (дронов) и т. д. В Югославии самолеты НАТО наносили удары с высоты более 4,5 километров, недосягаемой для сербских ПВО, что привело к многочисленным «побочным потерям». «Настойчивые заверения западных лидеров, что бомбардировка была направлена против режима, а не против сербов, вовсе не убеждали тех, кто испытал ее действие на себе» 10, — пишет Мэри Калдор. Она предлагает своего рода «средний путь» между беспомощным наблюдением и военным сокрушением, более рискованный, но и более эффективный, применение «минимальной необходимой силы», создание нового типа «солдата-полицейского, рискующего жизнью ради человечности».
2. Космополитическая политика. Простая идея: договариваться можно не только с теми, кто держит оружие. Принимать во внимание «гражданское общество», все эти НПО, женские или студенческие объединения, группы интеллектуалов? Калдор показывает, что это решение имеет прагматический смысл: «новые войны» отличаются тем, что их чрезвычайно трудно закончить «миром лучшим, нежели довоенный», потому что мир этот не с кем заключать. Власть полевых командиров не только дисперсна, она зависит от насилия и неопределенности, она опирается на страх, ненависть и криминальную экономику. В Сьерра-Леоне, Югославии, Нагорном Карабахе, Афганистане даже ограниченное взаимодействие с «альтернативными источниками власти», договоренности с местными сообществами, создание «зон безопасности» способствовали уменьшению насилия. Военные победы, как показывает опыт Ирака и Афганистана, сами по себе не приводят к политическому результату; мирное урегулирование, реконструкция гражданских институтов и формальной экономики требуют легитимности и участия, источником которых могут быть сообщества.
Анализ Калдор не убедит тех адептов realpolitik, которые считают, что если есть пистолет, то доброе слово излишне. Для незамутненно-милитаристского, «реконструкторского» сознания рассуждения о «гибридых войнах» и «асимметричных ответах» звучат музыкой, заглушающей вопросы «какой ценой?» или даже «ради чего?» Они способны причинять страдания, однако в некотором важном смысле уже проиграли.
Трансформация войны, переход от «несовременной» к «современной» войне — это не только технический сдвиг, изменение оружия и тактики9, но прежде всего социальная трансформация (для Калдор — глобализация), перестройка коллективной чувствительности и субъективности, способов репрезентации войны, конструирования ее «смысла», «необходимости», «справедливости» или «законности». Пройдя Верден, холокост, Карибский кризис, Вьетнам, 11 сентября, западный мир изменил отношение к войне. Говоря попросту, факт остается фактом: нынешний мир видит войну другими глазами, не как она виделась в начале столетия, и, если сегодня кто-то заговорит о прелестях войны как единственно возможной гигиены мирового масштаба, он попадет не в историю литературы, а в историю психиатрии. Война — явление того же порядка, что кровная месть или «око за око»: не то чтобы они уже не существовали на практике, но общество в наши дни воспринимает эти явления отрицательно, в то время как раньше воспринимало хорошо12.
Новоевропейское государство обосновывает себя, устанавливая контроль над вооруженным насилием, вынося войну на границы. С XIV по XVII век европейские монархии опираются на наемную пехоту в борьбе со знатью — монополия на насилие завоевывается на полях сражений, где плотные пехотные построения (баталии) наносят поражение дворянской кавалерии. И именно швейцарские гвардейцы, погибавшие в 1792 году на ступенях дворца Тюиль-ри, оказываются последними защитниками французской монархии. Революция открывает эпоху народных армий, превращает солдат в патриотов, лояльных и инициативных. Период войн наций и националистов завершается в 1945 году — сегодня политики вынуждены считать солдатские жизни или считаться с невозможностью всеобщей мобилизации. Государство все менее способно требовать себе кровавой жертвы, а это, как говорит Мартин ван Кревельд, может означать, «что значительная часть raison d’etre государства будет потеряна»13.
Война идет, однако агрессор все чаще вынужден действовать тайком, прикрывая свои намерения ору-элловским новоязом («война — это мир»), оправдывая циничную политику благородными словами, девальвирующимися и меняющими значение. Победа гражданских активистов и «наивных интеллектуалов» в том, что государство больше не может гордиться пролитой кровью. Философские проекты «вечного мира» реализованы в Лиге Наций и ООН, в пакте Келлога-Бриана, Нюрнбергском процессе и Гаагском трибунале. Антивоенные выступления стали частью мировой политики, с которой приходится считаться политикам и генералам. В XX веке не создано ни одного значительного произведения искусства, прославляющего войну, ничего сравнимого с «Похождениями бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека, «Герникой» Пабло Пикассо, «Неизвестным солдатом» Джима Моррисона или «Цельнометаллической оболочкой» Стенли Кубрика.
Но, возможно, когда говорят пушки, музы замолкают? Возможно, как предполагал Фрейд, вся эта «культура» или «цивилизованность» в значительной степени представляют собой «внешнее принуждение», которое ослабевает во время войны, открывая простор для проявления «корыстных и жестоких» влечений14?
С одной стороны, «культуру» сегодня невозможно «взять в скобки» на время военных действий, потому что она определяет их ход. Дело не только в том, что телевизионная война становится си-мулякром, не нуждающимся в «реальности» — в некоторых случаях она оказывается реальнее самой «реальности» (в строгом прагматическом смысле — по практическим следствиям), хвост виляет собакой. Пресловутая «информационная война» давно перестала быть «выдумкой постмодернистов», на чистом советском языке она объявлена одной из главных опасностей, угрожающих сегодня России^.
С другой стороны, как показал Норберт Элиас, «цивилизованность» не исчезает во время войны, а «культура» не является чем-то противоположным «кровожадным влечениям»:
Контроль над аффектами, сформированный повседневной жизнью цивилизованного общества, и предписанная этим обществом мера сдерживания и трансформации агрессии не отменяются даже в этих анклавах [во время войн]. В любом случае агрессия освободилась бы от этого контроля быстрее, чем нам хотелось бы, если бы прямая, физическая борьба против ненавистного врага не превратилась в механизированную войну, требующую строгого контроля над аффектами. Даже во время войны цивилизованных стран нашего мира индивид более не может непосредственно давать волю своим эмоциям, наслаждаясь видом поверженного врага. Он должен, независимо от своего настроения, подчиняться переданным ему приказам не видимого им командира и вести бой с зачастую не видимым им врагом. Требуются сильные социальные волнения и бедствия, и прежде всего требуется сознательно ведущаяся пропаганда, для того чтобы значительные массы людей вернулись к вытесненным из цивилизованной повседневности и социально осуждаемым влечениям, к радости, получаемой от убийства и разрушения, и для того чтобы эти влечения стали легитимными10.