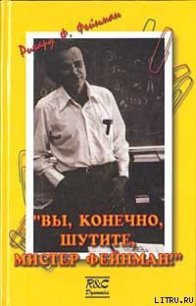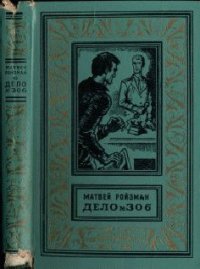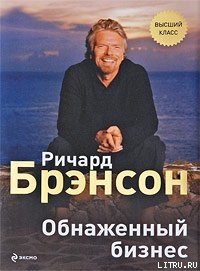Какое ТЕБЕ дело до того, что думают другие? - Фейнман Ричард Филлипс (библиотека электронных книг txt) 📗
Если бы я вспомнил то время, когда был младше, то история с Санта-Клаусом дала бы мне ключ. Но в то время я не обладал достаточным знанием, чтобы подумать о том, что, быть может, стоит подвергнуть сомнению истинность историй, которые не соответствуют природе. Когда я узнал, что Санта-Клауса не существует, я не расстроился, а, скорее, почувствовал облегчение от того, что факт, что так много детей по всему миру получают подарки в одну и ту же ночь, имеет гораздо более простое объяснение! История становилась все более сложной — она не укладывалась в голове.
Санта-Клаус представлял собой особый обычай, который мы праздновали в своей семье, причем относясь к этому не слишком серьезно. Но чудеса, о которых я слышал, были связаны с реальностью: был храм, куда люди ходили каждую неделю; была воскресная школа, где раввины рассказывали детям о чудесах; все это весьма впечатляло. Санта-Клаус не был связан с огромными заведениями, вроде храма, которые, как я знал, были реальны.
Таким образом, все время, пока я ходил в воскресную школу, я всему верил и постоянно пытался сложить все в одно целое. Но конечно же, в конечном итоге, рано или поздно, должен был наступить кризис.
Кризис наступил, когда мне было лет одиннадцать-двенадцать. Раввин рассказывал нам историю об Испанской Инквизиции, когда евреи подвергались ужасным мучениям. Он рассказал нам о конкретной женщине, которую звали Руфь, что она сделала, какие аргументы были в ее пользу и какие против нее — всю историю, как если бы ее записал секретарь суда. Я был всего лишь невинным ребенком, который слушал всю эту ерунду и верил, что это настоящие мемуары, потому что раввин никогда не упоминал об обратном.
В самом конце раввин описал, как Руфь умирала в тюрьме: «И, умирая, она думала», — ля, ля, ля.
Это шокировало меня. Когда закончился урок, я подошел к нему и спросил: «Откуда они узнали, что она думала, когда умирала?»
Он говорит: «Ну, дело в том, что мы придумали историю Руфи, чтобы более живо показать, как страдали евреи. На самом деле никакой Руфи не было».
Для меня это было слишком. Я почувствовал себя ужасно обманутым: я хотел услышать истинную историю — а не выдуманную кем-то еще, — чтобы я мог решить для себя, что она значит. Но мне было очень сложно спорить со взрослыми. Все, что я смог сделать, это расплакаться. Я был так расстроен, что из глаз покатились слезы.
Он спросил: «Но в чем дело?»
Я попытался объяснить. «Я слушал все эти истории, и теперь из всего, что Вы рассказали мне, я не знаю, что правда, а что — ложь! Я не знаю, что делать со всем, что я узнал!» Я пытался объяснить, что теряю все в одно мгновение, потому что я больше не уверен в данных, если можно так сказать. Я ходил сюда и пытался понять все эти чудеса, а теперь — что ж, это открытие объясняло многие чудеса, прекрасно! Но я был жутко несчастен.
Раввин сказал: «Если тебя это так травмирует, то зачем ты вообще ходишь в воскресную школу?»
— Меня родители посылают.
Я никогда не говорил об этом со своими родителями и не знаю, говорил ли с ними раввин, но мои родители больше никогда не отправляли меня туда. Все это произошло как раз перед тем, когда я должен был пройти обряд конфирмации как верующий.
Как бы то ни было, этот кризис довольно быстро разрешил мои трудности в пользу теории о том, что все чудеса — это истории, которые выдумали, чтобы помочь людям представить какие-то вещи «более наглядно», даже если эти чудеса противоречат каким-то природным явлениям. Но я считал, что сама природа настолько интересна, что мне не хотелось, чтобы ее так искажали. Таким образом, я постепенно пришел к тому, что вообще перестал верить в религию.
Так или иначе, еврейские священники организовали клуб со всеми его занятиями не только для того, чтобы отвлечь детей от улицы, но и чтобы заинтересовать нас образом жизни евреев. Так что если бы президентом этого клуба избрали типа вроде меня, то это поставило бы их в крайне неудобное положение. К нашему взаимному облегчению, меня не выбрали, но в конечном итоге центр все равно развалился — дело шло к этому уже тогда, когда меня выдвигали на должность президента, и если бы выбрали меня, то именно меня и обвинили бы в его кончине.
Однажды Арлин сказала мне, что больше не дружит с Жеромом. Она сказала, что их ничего не связывает. Это очень взволновало меня, стало началом надежды! Она пригласила меня к себе домой; она жила в доме 154 на Вестминстер-авеню в соседнем Седархерсте.
Когда я пришел к ней в первый раз, было уже темно, а на крыльце не было освещения. Номеров домов не было видно. Не желая никого тревожить расспросами о том, тот ли это дом, я тихонечко подкрался и нащупал цифры на двери: 154.
Арлин мучилась с домашним заданием по философии. «Мы изучаем Декарта, — сказала она. — Он начинает с утверждения «Cogito, ergo sum» — «Мыслю, следовательно, существую» — и заканчивает доказательством существования Бога».
— Невозможно! — сказал я, даже не остановившись, чтобы подумать, что сомневаюсь в словах великого Декарта. (Этой реакции я научился у своего отца: не признавай абсолютно никаких авторитетов; забудь, кто это сказал и, вместо этого, посмотри, с чего он начинает, чем заканчивает, и спроси себя: «Разумно ли это?») Я спросил: «Каким образом второе вытекает из первого?»
— Я не знаю, — сказала она.
— Отлично, давай посмотрим вместе, — сказал я. — Каков аргумент?
Итак, мы просматриваем все заново и видим, что утверждение Декарта «Cogito, ergo sum» должно означать, что есть одно, что не подлежит сомнению — нельзя сомневаться в себе. «Но почему он просто не скажет этого прямо? — посетовал я. — Так или иначе, он лишь хочет сказать, что знает всего один факт».
Затем аргумент продолжается и утверждает что-то вроде: «Я могу представить лишь несовершенные мысли, но несовершенное можно понять лишь в связи с совершенным. Следовательно, где-то должно существовать совершенное». (Теперь он прокладывает дорогу к Богу.)
— Вовсе нет! — говорю я. — В науке можно говорить об относительных степенях приближения, не имея совершенной теории. Я не знаю, что все это значит. По-моему, это полная чушь.
Арлин меня поняла. Когда она увидела все это, она поняла, что неважно, какой впечатляющей и важной должна быть эта философская чушь, ее можно воспринимать легко — можно думать лишь над словами, не беря в голову тот факт, что их произнес Декарт. «Отлично, думаю, что можно встать на другую сторону, — сказала она. — Наш учитель все время нам говорит: „У каждого вопроса всегда есть две стороны, как и у каждого листа бумаги — тоже две стороны“».
— Но и у последнего вопроса тоже есть две стороны, — сказал я.
— Что ты имеешь в виду?
Я читал о листе Мёбиуса в «Британской энциклопедии», в моей чудесной «Британской энциклопедии»! В те дни вещи, вроде листа Мёбиуса, не были хорошо известны каждому, но понять их было так же легко, как их сейчас понимают дети. Существование подобной поверхности было реальным: это не был какой-то непонятный политический вопрос; чтобы его понять, не нужно было знать историю. Читать обо всем этом было все равно, что уходить в другой, чудесный мир, о котором не знает никто, и где удовольствие получаешь не только от изучения самой сути вопроса, но и от того, что, благодаря этому, становишься уникальным.
Я взял полоску бумаги и, согнув ее пополам, перекрутил, так что получилась петля. Арлин была в восторге.
На следующий день, в классе, она ждет, что сделает учитель. Естественно, он берет лист бумаги и говорит: «У каждого вопроса — две стороны так же, как и у каждого листа бумаги тоже две стороны». Арлин поднимает свою полоску бумаги — которая закручена в петлю — и говорит: «Сэр, даже у этого вопроса две стороны: вот бумага, у которой только одна сторона!» Учитель и класс пришли в восторг, а Арлин получила такое удовольствие от того, что показала им лист Мёбиуса, что, по-моему, после этого она стала обращать на меня больше внимания.