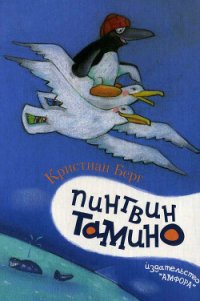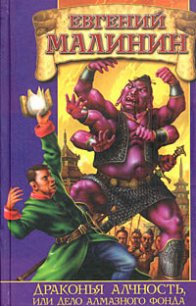Пагубная самонадеянность - фон Хайек Фридрих Август (читать лучшие читаемые книги .txt) 📗
Упомянув о Руссо и его всепроникающем влиянии, а также и о других исторических событиях, хотя бы только ради того, чтобы напомнить читателям, что бунт против собственности и традиционной нравственности серьезные мыслители подняли довольно давно, я обращусь теперь к XX веку — к некоторым идейным наследникам Руссо и Декарта. Для начала, однако, следует подчеркнуть, что я не рассказываю здесь ни о большей части долгой истории этого бунта, ни о различных поворотах, которые она принимала в разных странах. Еще задолго до того, как Огюст Конт для обозначения взгляда, представляющего "доказуемую этику" (т. е. доказуемую разумом), ввел термин "позитивизм" — как единственную альтернативу сверхъестественной "этике откровения" (1854: I, 356), Иеремия Бентам разработал наиболее последовательную систему того, что мы сейчас называем правовым или моральным позитивизмом. Я имею в виду конструктивистскую интерпретацию систем права и морали, в соответствии с которой предполагается, что их действенность и значение всецело зависят от воли и намерения их создателей. Бентам является поздним представителем этого течения мысли; оно объединяет не только последователей традиции самого Бентама (традиции, освоением и развитием которой был занят Дж. С. Милль, а позднее — либеральная партия в Англии); такой конструктивизм свойствен практически всем современным американцам, именующим себя "либералами" — в противоположность мыслителям совершенно другого направления, чаще встречающимся в Европе (их тоже именуют либералами, но лучше было бы называть "старыми вигами" — в числе их выдающихся представителей были Алексис де Токвиль и лорд Актон). Современный швейцарский исследователь остроумно замечает, что конструктивистский способ мышления становится поистине неизбежным для того, кто примет господствующую либеральную (читай — "социалистическую") философию, согласно которой постольку, поскольку различие между добром и злом вообще имеет для человека значение, он и должен — и может — сам сознательно проводить между ними разграничительную линию (Kirsch, 1981: 17). Наши интеллектуалы и их традиция разумного социализма То, что было сказано мною о морали и традициях, об экономической теории и рынке, а также об эволюции, явно противоречит многим влиятельным идеям, причем не только старому социал-дарвинизму, обсуждавшемуся в первой главе и уже не имеющему широкого распространения, но и многим другим воззрениям прошлого и настоящего: взглядам Платона и Аристотеля, Руссо и основоположников социализма, идеям Сен-Симона, Карла Маркса и многих других. Действительно, главный пункт моих рассуждений — что нормы морали (включая, в частности, наши институты собственности, свободы и справедливости) являются не творением человеческого разума, а определенным дополнительным даром, которым наделила человека культурная эволюция, — идет вразрез с основным умонастроением XX века. Влияние рационализма и вправду было настолько глубоким и всепроникающим, что в принципе, чем умнее образованный человек, тем более вероятно, что он (или она) разделяет не только рационалистические, но и социалистические взгляды (независимо от того, в достаточной ли мере их убеждения отличаются доктринальной чистотой, чтобы им можно было приклеить какой-либо ярлык, в том числе — и ярлык "социалистических"). Чем выше поднимаемся мы по лестнице интеллекта, чем теснее общаемся с интеллектуалами, тем вероятнее, что мы столкнемся с социалистическими убеждениями. Рационалисты — люди по большей части просвещенные и интеллектуальные, а просвещенные интеллектуалы — по большей части социалисты. Позволю себе сделать два замечания личного свойства. Я полагаю, что могу со знанием дела говорить об этом мировоззрении, потому что рационалистические взгляды, которые я систематически изучал и критиковал так много лет, были основой, на которой в первые десятилетия этого века я, подобно большинству не-религиозных европейских мыслителей моего поколения, строил свое мировоззрение. В то время они представлялись самоочевидными, и следование им казалось путем, позволяющим избежать всякого рода вредных предрассудков. Я сам потратил немало времени, чтобы освободиться от этих представлений, — и по ходу дела обнаружил, что они сами являются предрассудками. Хотелось бы, чтобы мои довольно резкие замечания о конкретных авторах на последующих страницах не воспринимались как личные выпады. Более того, здесь, пожалуй, уместно напомнить читателям о моем эссе "Почему я не консерватор" (1960: Послесловие), тогда они не станут делать неверных выводов. Хотя мои аргументы направлены против социализма, я не больший тори и консерватор, чем Эдмунд Берк. Весь мой консерватизм исчерпывается идеей морали, заключенной в определенные границы. Я всецело на стороне экспериментирования — и выступаю, по существу, за гораздо большую свободу, чем та, какую склонны дозволять консервативные правительства. Если я и возражаю против чего-то у рационалистов-интеллектуалов, вроде тех, что будут мною рассматриваться, то не против их экспериментаторства; они, пожалуй, экспериментируют слишком мало (а то, что они выдают за экспериментирование, оказывается, по большей части, банальностью). Ведь, в конце концов, идея возврата к инстинктам на деле стара как мир, и осуществить ее пытались столько раз, что уже непонятно, в каком смысле ее еще и ныне можно называть экспериментальной. Я выступаю против подобного рационализма, потому что он объявляет свои эксперименты при всей их избитости детищем разума, обряжает их в одежды псевдонаучной методологии и, вербуя таким образом влиятельных новообращенцев и подвергая бесценный опыт традиций (плод многовекового эволюционного экспериментирования методом проб и ошибок) необоснованным нападкам, укрывает свои собственные "эксперименты" от критического анализа.
Первоначальный шок при обнаружении того факта, что люди интеллектуальных профессий по большей части бывают социалистами, проходит по мере осознания того, что этим людям свойственно, как правило, переоценивать интеллект и полагать, будто мы должны быть обязаны всеми преимуществами и возможностями, которые дает нам цивилизация, сознательному замыслу, а не следованию традиционным правилам поведения. Точно так же они склонны полагать, что мы можем, употребив свой разум, устранить любые остающиеся нежелательные явления посредством все углубляющейся мыслительной рефлексии, все более целесообразных проектов (designs) и все более "рациональной координации" предпринимаемых действий. Это располагает к благосклонному принятию централизованного экономического планирования и контроля, образующих сердцевину социализма. Разумеется, интеллектуалы станут требовать объяснения мер, которые, как они предполагают, будут предприниматься, и откажутся признавать утвердившиеся практики на том лишь основании, что те, как оказывается, регулируют жизнь обществ, в которых по воле случая им довелось родиться; это будет приводить их к конфликту с теми, кто охотно принимает установившиеся правила поведения, или, по меньшей мере, интеллектуалы будут о таких людях крайне низкого мнения. Кроме того, они по вполне понятным причинам пристраиваются к науке и разуму, а также к необыкновенному прогрессу естественных наук в последние несколько веков. Поскольку же их учили, что наука и использование разума всецело сводятся к конструктивизму и сциентизму, им трудно поверить в существование какого-либо полезного знания, возникшего отнюдь не в результате преднамеренного экспериментирования, или признать ценность каких-либо иных традиций, помимо их собственной традиции разумности. Вот суждения одного выдающегося историка, выдержанные в подобном духе: "Традиция чуть ли не по определению достойна порицания, она предосудительна и заслуживает осмеяния" (Seton-Watson, 1983: 1270). "По определению" Барри (1961), как было упомянуто выше, пожелал сделать нравственность безнравственной и справедливость несправедливой по "аналитическому определению"; теперь Сетон-Уотсон пытается совершить подобный же маневр с традицией, делая ее по определению достойной порицания. Мы вернемся к этим словам, к этому "новоязу" в гл. 7. Пока же обратимся непосредственно к фактам.