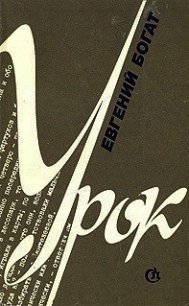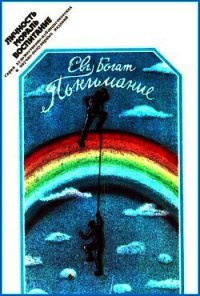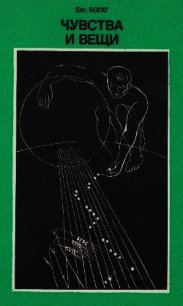Узнавание - Богат Евгений Михайлович (бесплатные серии книг .TXT) 📗
Изменчивость Джоконды делается особенно явственной в медленно омывающей и нехотя расстающейся с нею толпе. (Это было в московском Музее изобразительных искусств.) Я два раза «наплывал», отрывая себя, и, уже уходя, на пороге зала, оглядываясь, чувствовал (опять издали) ее незащищенность.
А между этими двумя совершенно различными чувствами — нежностью к ее женской стати и сути и растерянностью перед могуществом ее интеллекта — теснились чувства менее резкие и определенные, вызванные богатством переливающихся оттенков ее душевной жизни. Что-то дышало, бежало, возвращалось, как блеск по шелковой ткани… И я понял: это что-то — ВРЕМЯ.
Оно — передо мной — переливается, бежит, возвращается, дышит. Быть может, и не поймав кистью ту бесценную песчинку, Леонардо передал жизнь двух сердец — Моны Лизы и собственного — в развитии, запечатлел в нем тончайшее и совершил чудо — мы можем сами вернуться к той минуте, когда в лице юной женщины мелькнуло восхитившее художника и не повторившееся больше выражение, мы можем увидеть то, что не удалось ему увидеть опять. Мы стали могущественнее самого Леонардо.
В этом и тайна великой живописи. Мы видим чувства и мысли в развитии и можем наслаждаться этим развитием в любом направлении. Мы можем пережить и то, что было до, и то, что будет потом: радость Моны Лизы, когда первый раз заиграла лютня, и печаль рембрандтовской Данаи, когда иссяк золотой дождь…
Мне хочется сейчас чуть подробнее разработать эту тему: Время в живописи, потому что она имеет самое непосредственное отношение к нашему путешествию на дилижансе сквозь века.
Моменты телесной или душевной жизни человека, никогда в действительности не существующие одновременно, художник изображает в единстве, в синтезе, поэтому богатство человеческого бытия, которое в реальной жизни развертывается, раскрывается постепенно, так сгущено (как в «Дискоболе» Мирона или в образе любого из рембрандтовских стариков) в единое состояние души или тела.
Моменты душевной жизни даны в великих портретах, как в янтаре напластования веков: в живой игре, в почти неуловимых переходах, в самосветящейся подлинности, рождающей все новые, непредсказуемые оттенки. Перед великими портретами мы наслаждаемся богатством сущности человека и богатством собственной личности, потому что и в нас рождается эта дивная одновременность моментов душевной жизни, разделенных в действительности часами, месяцами, годами.
Художник — господин времени. И мы — с ним.
Но время живет в изобразительном искусстве не только как синтез телесного и духовного богатства личности (восстановим опять для наглядности в памяти «Дискобола» и рембрандтовского «Старика»), оно живет в нем и как синтез идейного богатства или «бедности» (если старое умерло, а новое лишь нарождается) эпохи.
Наклон головы, выражение рук, форма складок одежды на портрете говорят и о духовном состоянии личности и о духе столетия.
История искусства — история идей. Поэтому живописец, решая, как ему кажется, чисто художественные задачи, делает нечто большее. В XII–XIII веках, на переломе великих эпох, накануне эпохи Возрождения, когда люди после ряда столетий, наполненных поклонением неземному, бестелесному миру, опять ощутили любовь к окружающей их живой действительности, точнее, начало начал этой любви, создатели дивных витражей — картин на стекле в соборах — не помышляли о том, что их руками эпоха утоляет новую духовную потребность. Они были захвачены решением великой художественной задачи — рождением живописи на самом негибком и ломком из материалов, а устанавливали новые отношения между личностью и мирозданием. Эти напоенные извне солнцем и небом разноцветные стены-окна и отделяли и не отделяли человека от действительной жизни, делали ее реально существующей и в то же время фантастической, соединяя бестелесное с телесным… без этих окон (то есть без идей, которые они отражали) не было бы и великой живописи эпохи Возрождения.
История искусства — история духовной жизни человечества, тончайшие оттенки ее запечатлены на витражах, фресках, гобеленах, холстах…
Но разве объясняет это, почему при виде уже раскрошившегося лица женщины, изваянного на Востоке три тысячелетия назад в городе, чье название помнят сегодня лишь археологи, или перед доской из тополя, на которую четыре века назад дышал любовно художник, известный как «мастер женских полуфигур» или «мастер зимних пейзажей», мы испытываем чувство непосредственного соприкосновения с теми первоосновами нашей личности, первоосновами жизни нашего духа, которые в «рядовом состоянии» зашторены наглухо? Что нас волнует? Узнавание себя, собственной души через века и тысячелетия (мы будто заглянули в сумрачный, уходящий в бездонность колодезь и увидели в выступившей на миг почти неразличимой воде собственное отражение).
Конечно, история искусства — история идей, но это и самый увлекательный из романов, героем которого может почувствовать себя любой из нас, это измеряемая тысячелетиями история нашей души, ее путешествий и открытий, утрат и бессмертных осуществлений. Это великий роман о тебе и обо мне. И это особая, самая интимная сторона жизни Времени в изобразительном искусстве.
В старину, когда были живы паруса, перед большим отплытием подолгу стояли на берегу, чтобы почувствовать море, и это помогало потом ладить с ним. Стихия нашего путешествия сквозь века — время. Вот и мне хочется постоять на берегу…
Виноват, не на берегу, а на пороге почтовой станции: я чуть было не забыл, что путешествовать мы будем на дилижансе. Это, конечно, игра, но раз мы ее избрали, будем соблюдать условия — не забывать о старом добром дилижансе, в котором совершали путешествия и Стендаль и Андерсен. Они иногда жаловались, что дилижанс трогался с немалым опозданием: не собирались вовремя пассажиры или кучеру в последнюю минуту казалось ненадежным одно из колес. Но, жалуясь, писали и о том, что воображение их было уже в пути, когда тело оставалось на станции. Мне даже кажется, что в эти минуты — или часы? — ожидания, пока запоет рожок и заскрипят колеса, им думалось особенно хорошо: о том, что сулит дорога, чем одарит новое путешествие. Подумаем и мы, пока не собрались пассажиры или не готова видавшие виды большая карета, подумаем о том, почему именно в изобразительном искусстве так интересно живет Время — интереснее даже, чем в литературе или театре?
А дело тут в странной сути изображения.
Когда, до появления первобытного искусства, человек в поисках камней, которыми он убивал животных, нашел один, похожий на голову льва, его изумление, по-видимому, было безграничным. Раньше он видел отдельно льва и отдельно камень, и то, что лев может быть камнем, а камень — львом, было для него потрясающим открытием. Ни лев, ни камень сами по себе его не удивляли, но камень-лев не мог не потрясать воображения: он был одновременно и мертвым и живым, от него хотелось бежать и хотелось рассматривать его бесконечно долго. Человек ощутил силу изображения, когда соединилось в чем-то, ранее понятном и даже послушном его руке (дереве, камне), мертвое и живое. И родилось нечто новое, существующее само по себе.
Его особенно волновало это соединение мертвого и живого, потому что живое делалось не менее, а более живым. Почему во льве-камне больше жизни, чем в настоящем льве? Что за сила в нем заключена? Он ее не понимал. Имя ее было ему неизвестно. Но мы-то ее понимаем и можем назвать — ВРЕМЯ. (Стихия нашего путешествия!)
Эволюции на земле нужны были миллионы лет, чтобы совершить путь от камня ко льву, от дерева к оленю, а от оленя и льва к человеку. И в ту минуту, когда ему в камне открылся лев, его сознание и сердце вобрали в себя эти миллионы. И он улыбнулся — улыбнулся не потому, конечно, что ощутил себя «царем вечности», улыбнулся потому, что первый раз не было страха перед царем пустыни, а рождалось совершенно иное чувство: через ряд тысячелетий его назовут нежностью. В сущности, в ту минуту через изображение устанавливались новые родственные отношения между человеком и миром, космосом и даже (не убоимся торжественности) между человеком и вечностью.