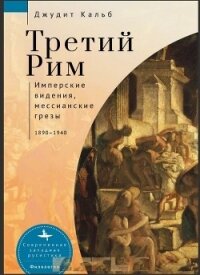Вода и грёзы. Опыт о воображении материи - Башляр Гастон (читать полную версию книги .TXT, .FB2) 📗
I
В своем заключении нам хотелось бы соединить все уроки лиризма, которые дает нам река. В основании этих уроков лежит некое весьма значительное единство. Это воистину уроки одной из фундаментальных стихий.
Чтобы продемонстрировать единство голосов в поэзии воды, мы сразу же выскажем крайний парадокс: вода – хозяйка текучего языка, языка «бесперебойного», языка непрерывного, тягучего, языка, смягчающего свой ритм, наделяющего разные ритмы материальным единообразием. Итак, без колебаний возвратим должный смысл выразительности, в которой звучат качества поэзии струящейся и оживленной, вытекающие из собственных родников.
Не перегибая палку – как это теперь делаем мы – Поль де Рёль как раз в связи с только что сказанным отмечает пристрастие Суинберна к плавным согласным[434]: «Склонность использовать плавные согласные для того, чтобы воспрепятствовать нагромождениям и столкновениям других согласных, позволила ему приумножить и другие звуки на стыке слов. Употребление артикля, производных слов вместо простых часто используется для того же самого: „in the June days – Life within life in laid“ (в июньские дни – Жизнь была вложена в жизнь)»[435]. Там, где Поль де Рёль видит средства, мы усматриваем цель: по-нашему, текучесть – это даже желание языка. Язык хочет течь. Он течет естественным образом. Его резкие скачки, камни, «жесткости» – это лишь более сложные, более искусственные его попытки стать явлением природы.
Наш тезис не ограничивается уроками поэзии имитативной. Нам кажется, что поэзия имитации, по существу, обречена оставаться поверхностной. От живого звука в ней сохраняется только его грубость и неловкость. Она воспроизводит лишь механику звучности, у нее не получается звучности по-человечески живой. Например, Спирмен[436] утверждает, что в нижеследующем стихе слышится едва ли не галоп:
I sprang to the stirrup, and Joris, and he
I galloped, Dirck galloped, we galloped all three[437].
(Я вскочил в стремя, и Джорис, и он,
Я мчался галопом, Дирк мчался, мы мчались все трое.)
Чтобы как следует воспроизвести шум, нужно воспроизводить его с еще большей глубиной, нужно пережить в самом себе волю к его воспроизведению; еще было бы неплохо, если бы поэт здесь заставил нас двигать ногами, внушил нам ощущение бега и вращения, чтобы мы пережили асимметричное движение галопа; эта динамическая подготовка, однако, отсутствует. Но ведь именно динамическая подготовка вызывает активность вслушивания; такого вслушивания, от которого хочется говорить, двигаться, видеть. На самом деле теория Спирмена, в общем и целом, чересчур концептуальна. Ее аргументы основаны на изображаемых в поэзии картинах и «чертежах», и потому зрение попадает в привилегированное положение. Таким путем можно прийти только к формуле воспроизводящего воображения. Но ведь воспроизводящее воображение преграждает путь и мешает воображению творческому. В конце концов область, где можно по-настоящему изучать воображение, это отнюдь не живопись, это литературное творчество, слово, фраза. Ведь именно здесь форма – это такой пустяк! Ведь властвует материя, и как! И ручей – такой великий властелин и мастер!
Есть, говорит Бальзак, «тайны, скрывающиеся в любых речах человека»[438]. Но подлинная загадка не обязательно находится у истоков, у корней, в стародавних формах… Бывает она и в словах, которые вошли в силу именно теперь, расцвели именно в наши дни, в словах, которые в прошлом были как бы «незавершенными», – ведь древние не догадывались, сколь они прекрасны, – слова, являющиеся таинственными сокровищами того или иного языка. Таково, например, слово rivière (река). В нем запечатлен феномен, не передаваемый средствами других языков. Стоит лишь предаться фонетическим грезам о грубости звучания английского слова river[439]! И тогда станет ясно, что слово rivière – самое французское из всех. Это слово, творящееся посредством неподвижного визуального образа rive (берега), и, тем не менее, оно никогда не перестанет течь и струиться…[440]
Как только поэтическая выразительность предстает чистой и самовластной, появляется уверенность в том, что между ней и материально-стихийными истоками языка имеется определенная взаимосвязь. Меня всегда поражало, что поэты связывают с поэзией вод губную гармонику. Добрая слепая из жан-полевского «Титана» играет на губной гармонике. В «Бокале» герой Тика обрабатывает края кубка так, что получается губная гармоника. И я не раз задавал себе вопрос – по какому праву стекляшка, в которой звучит вода, получила свое название гармоники? Позднее я прочел у Бахофена, что гласная «а» – это гласная воды. Она властвует в таких словах, как aqua, ара, Wasser[441]. Это фонема[442] сотворения мира при помощи воды. Это «а» и обозначает первоматерию. Это начальная буква поэмы мироздания. Это буква, обозначающая отдохновение души в тибетской мистике.
И тут мы рискуем навлечь на себя обвинение в том, что за достоверные основания мы принимаем какой-то набор словесных приближений; нам скажут, что плавные согласные вызывают в памяти не более чем любопытную метафору, придуманную фонетистами. Нам, однако, кажется, что такое возражение есть отказ прочувствовать соответствие между словом и реальностью во всей его глубинной жизненности. Такое возражение есть произвольное отбрасывание в сторону всей сферы творческого воображения, как чего-то несущественного: и воображения при помощи речи, и воображения при помощи говорения, воображения, мускульно играющего говорением, воображения говорливого и увеличивающего психический объем бытия. Уж этому-то воображению доподлинно известно, что река – это речь без знаков препинания, элюаровская фраза, не допускающая в свои рассказы «пунктуаторов». О песнь реки, чудесное словоизлияние[443] природы-дитяти!
Да и как же нам не пережить речи воды, насмешливого журчания на жаргоне ручья!
И если этот аспект разговорчивого воображения не так легко понять, то лишь потому, что функциям ономатопеи[444] зачастую придают чересчур ограниченный смысл. Почему-то всегда желают, чтобы ономатопея была чем-то вроде эха, чтобы она целиком и полностью опиралась на вслушивание. По существу же, ухо гораздо либеральнее, чем предполагают; оно с легкостью соглашается на определенные перестановки в процессе имитации и, скорее, даже имитирует саму первичную имитацию[445]. Со своею радостью слушания человек мысленно связывает и радость активного говорения, радость, в которой участвует вся физиономия, ибо на ней выражается его имитаторский талант. Звук – это всего лишь одна из частей мимологизма (т. е. игры мимики и речи).
Шарль Нодье, этот добрый малый со всей своей наукой хорошо понял проективный характер ономатопей. Он придерживался того же мнения, что и президент де Бросс: «Множество ономатопей были образованы если не в соответствии с шумом, производимым при движении, которое они обозначают, то, по крайней мере, соответственно шуму, зависящему от восприятия того, как представляется это движение; на кого, как представляется, это движение направлено; по аналогии, оно (движение, обозначающееся ономатопеей) ассоциируется с другими движениями такого же рода и с их обыкновенными следствиями. Например, действие, заключающееся в мигании, на основе которого он строит свои догадки, не производит какого бы то ни было реального шума, но другие действия того же рода воспроизводятся сознанием с достаточной отчетливостью, ибо этому помогает сопровождающий их шум, звуки, послужившие созданию корня этого слова»[446]. Так, значит, здесь мы имеем дело с как бы перемещенной или сдвинутой ономатопеей, которую – для того, чтобы ее услышать, – нужно произнести, спроецировать со своеобразной абстрактной ономатопеей, «озвучивающей» дрожащее веко.